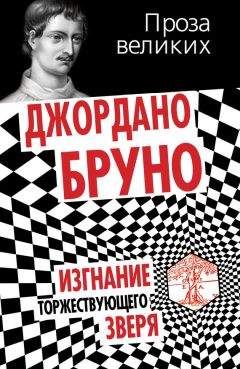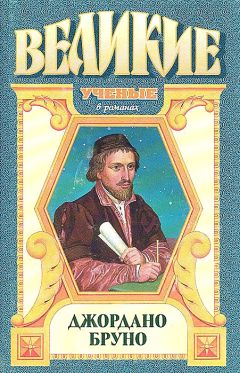Семeн Бронин - История моей матери. Роман-биография
Рене пришлось взяться за не любимого ею Гегеля. Впрочем, это нужно было ей самой: впереди был последний год лицея, именуемый философским.
— Давай почитаем. Ты взял с собой книжку?
— Взял, конечно. Вот здесь. Где отчеркнуто.
— И что здесь трудного?.. «Прежде всего, сознание себя есть простое бытие-для-себя, равное себе самому и исключающее из себя все чужое. Его сущность и абсолютный объект является «Я», и в этой непосредственности, или в этом бытии-для-себя есть нечто странное…»
— «Есть нечто странное», видишь ли! Поняла что-нибудь? Я кретином себя чувствую: все понимают, только я один ни хрена не смыслю!
— Какой ты кретин? — успокоил его Люк. — Тут просто вглубиться надо.
— «Вглубиться»! Может, ты объяснишь? Я гляжу, Рене и та молчит.
Рене кончила изучать злополучный абзац (он был дочитан Алексом не до конца, а лишь наполовину, до того места, где он споткнулся).
— Это все понимать надо в контексте с прочим. Каждый философ создает свой язык — нужно сначала ознакомиться с его понятиями.
— А попросту по-французски написать нельзя?
— Нет. Потом, тут же слева разъяснение?
— Да я и его читал. Еще непонятнее Гегеля. Нет, видно, это все специально так написано, чтоб простого человека к себе не подпустить. Чтоб потел и парился над книжкой, а они, как Мишель, с малых лет плавали б в ней как рыба в воде. Язык у них свой, видишь ли! Как у каторжников! Чтоб другие не понимали!
— Давай все-таки прочтем комментарий. «Каждый интуитивно полагает, что знание, которое он имеет о себе, дано ему в непосредственном восприятии: «я есть я»,"я знаю о себе как о себе». Однако вопросы, из чего состоит это знание и как приходят к пониманию себя, не работают, потому что у нас имеется заранее готовый ответ на них, который не дает этим вопросам шанса быть рассмотренными. Когда я говорю, что я знаю себя без посредников, я хочу, очевидно, сказать, что я сознаю себя человеком. Но в этом я ошибаюсь: непосредственное знание себя недоступно человечеству…» — Рене закрыла книгу. — Это все интересно очень. Но об этом подумать надо. Сразу не осилишь… — И, помедлив, добавила: — Нужно Мишеля звать.
— Да он не скажет ничего, — уверенно предрек Алекс, но затем передумал: Рене и та стала в тупик. — Зови, раз так. Только сама. Я за ним не поеду…
Стали думать, как разыскать сына философа. Они не знали ни адреса, ни даже фамилии, которую помнили приблизительно: не то Маро, не то Моранди — и знали доподлинно только то, что отец Мишеля известный философ. Рене собралась на поиски и позвала ребят с собою. Алекс сказался занятым, а Бернар согласился, но так, что лучше бы отказался: обреченно и вымученно. Рене решила пойти с Люком, и Бернар вздохнул с облегчением. Он как огня боялся всякого нового дела, знакомств — еще больше и лишь свою работу любил с каждым днем все больше: это был прирожденный сторож административных зданий.
Люк повеселел и просиял от полученного задания: этому любое новое дело было в охотку и в удовольствие, будто то, что он делал дома, не шло ни в какое сравнение с комсомольскими поручениями. Рене не знала, чем он занимается, — кроме того, что ходит по вечерам смотреть, как другие учат философию. Она спросила Алекса — тот тоже не знал, хотя его считали приятелем Люка: он познакомился с ним в бистро, до занятий философией, в ту пору, когда позволял себе кружку-другую пива, но знакомство было шапошное.
Рене пошла в Сорбонну: чтоб по отцу выйти на сына. Они перешли Сену и вошли в район студентов. Университет поразил их обоих. Они никогда в нем не бывали, но если Рене была причастна к миру наук и искусств, то Люку все было в новинку, и он с изумлением пялился на помпезный храм знаний и на его самоуверенных завсегдатаев. Они попали вначале на юридический факультет. Студенты, самонадеянные, самовлюбленные и довольно нахальные, стремительно проходили мимо, не проявляя к ним ни малейшего интереса. Рене спрашивала, как пройти в философский факультет, но они не находили для нее и лишь показывали с неопределенностью куда-то назад и наискось. Она нашла более доступного на вид юношу, прислонившегося в одиночестве к одной из колонн, поддерживавших крутые арчатые своды.
— Что вам нужно? — спросил он самым простым и естественным образом, будто сам случайно здесь оказался.
— Ищем человека одного, а никто помочь не хочет… Мы что: не подходим к этому заведению?
— Да уж. Особенно твой приятель. — Люк виновато поник головой, а юрист, еще раз мельком оглядел их и показал, как идти к философам, — без него они долго бы еще здесь блуждали…
Философы оказались народ и вовсе вздорный и непредсказуемый. Разговаривать с ними было еще трудней, чем с юристами. Они подошли к группе из четырех студентов. Им было лет по двадцать, но все казались одновременно и старше и моложе своего возраста. Они старались вести себя самым обыденным и привычным образом, но в глазах у них тлел и перелетал от одного к другому тот священный огонек, который выделяет философов среди всех прочих: бегает, как язычок огня по уголькам, скользя от одного полена к другому и подымаясь иной раз всплеском общего пламени.
— Филип, что ты думаешь о Полин Арго? — допытывался один у другого: видно, не по первому уже разу. — Тебе не кажется, что она ведет свою роль манерно и в то же время примитивно?
— Сам ты манерный, — грубо отвечал ему тот. — Вопрос поставлен некорректно: мне, Луи, ничего не кажется. Как я воспринимаю ее — это другое дело.
— Но все-таки?! Я бы даже сказал: прежде всего примитивно, а потом уже с маньеризмами!..
Рене и Люк не дали Филипу ответить достойным образом: подошли и навели свои справки.
— Не то Маро, не то Маренди. — Рене извинилась за неточность сведений.
— Маро? — переспросил Филип. — Это поэт шестнадцатого века. Если быть точным, то его начала. Предшественник Плеяды. Неплохой поэт, между прочим. Как считаешь, Огюст?
Огюст тверже стоял на ногах, чем его приятель:
— При чем тут поэт? Они живого человека ищут. Но я такого философа не знаю. Может, Гассенди? — спросил он вдруг с сомнением в голосе.
— Окстись! — Филип отплатил ему его же монетой. — Гассенди когда жил, по-твоему? Еще раньше Маро.
— Ну уж, раньше! Позже, конечно. Но я сказал это не подумавши, — признал тот. — Читал его вчера — поэтому. Моренди, Гассенди — фамилии схожие… Моранди вроде был. Если только это философ. Люк, ты читал Моранди?
— Я?! — изумился товарищ Рене. — Ни в жисть!
— Я не к вам обращаюсь, молодой человек, — церемонно и недружелюбно возразил Филип, — а к моему другу. Не все Люки ваши. Имя — существенный, но не исчерпывающий атрибут явления. Собственно, для каждого из нас оно более существенно, чем для прочих. Потому что мы определяем себя через имя. Но то, что для нас единично, для других множественно. Если, конечно, вы не Самсон и Далила. Хотя с Самсоном уже труднее. Это интересно, об этом надо подумать.