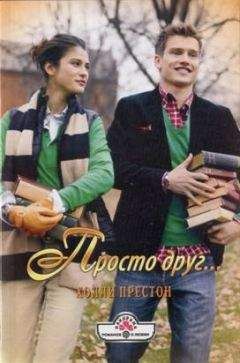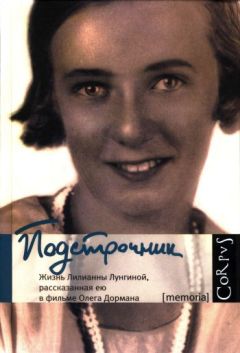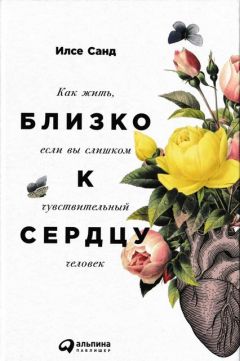Олег Дорман - Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана
Своей гениальной интенсивностью, своим лаконизмом и точностью музыка Локшина напоминает старинную японскую поэзию. Он умеет выразить глубокое переживание одной музыкальной фразой. Седьмую симфонию он сочинил на стихи японских поэтов седьмого — двенадцатого веков. Как Малер написал свою «Песнь о земле» на стихи древних китайских поэтов. Великие симфонисты обращаются к слову не потому, что музыкальных средств им недостаточно. Нет, они само слово включают в область музыки: не как звук просто, а как явление. Малер сказал: «Представьте, что вселенная начинает звучать, и не только людские голоса, но солнце и звезды». Вот слово как величайшее явление в ряду других явлений вселенной, как одна из форм музыки.
Локшин и Шостакович были настоящими апостолами Малера. Но они не подражали: продолжали. В первую очередь развивали то малеровское направление в симфонии, когда музыка глубоко исповедальна, интимна, и через ее лирического героя раскрывается всякий раз весь мир, все мироздание.
Пианистка Вассо Девецци, приехавшая играть с нашим оркестром, привезла в Москву подругу — Марию Каллас.
Величайшая певица, между ней и всеми прочими — пропасть, никого и близко нельзя поставить рядом. У Марии в то время были неприятности в личной жизни, и Вассо пригласила ее вместе прокатиться. Познакомила нас. Была замечательная встреча, и я показал Марии «Песенки Маргариты», сочинение Локшина по «Фаусту» в переводе Пастернака. Каллас загорелась, сказала: я хочу выучить это и спеть. Спела бы, никаких сомнений, но, увы, вскоре ее не стало. Случилось так, что я побывал на ее последнем выступлении в опере, она меня пригласила. Каллас пела «Норму» в Париже. Напротив меня в ложе сидел Чарли Чаплин с дочерью, совсем седой. Каллас пела поразительно, длинными-длинными фразами, с невероятной музыкальностью и теплотой, я был потрясен. Но ей дважды изменил голос, и кто-то зашикал, кто-то свистнул. А когда она вышла на поклоны, то публика стала кричать «Корелли! Корелли!», вызывая вместо нее ее партнера. Я смотрел на Чаплина и не сомневался, что он испытывает то же страдание от этой жестокости, что и я.
Локшин был человеком и веселым, и умевшим радоваться, но я знаю, из каких страданий выросла каждая его нота и каким подвигом он создал эту удивительную красоту. Скромнейший, непритязательнейший, заботливый. Работал всегда, я не помню его неработающим. Одинединственный раз его чудесная жена Таня уговорила его поехать в Железноводск, подлечиться, он же страшно болел. Купила билет, проводила на вокзал, посадила на поезд. Пошла на работу в университет. А когда вернулась домой — Шура сидел за столом и писал. Он в последний момент сошел с поезда, никуда не поехал.
42
Однажды Локшин позвонил мне: «Рудик, что вы сейчас делаете?» Я говорю: «Работаю, занимаюсь…» — «Все бросайте и приезжайте ко мне».
Я без лишних вопросов поспешил к нему. Локшин встречает взволнованный, с горящими глазами.
— Дело в том, — говорит, — что приехал из-за границы Арвид Янсонс (сын которого станет потом большим дирижером) и привез мне в подарок запись Десятой симфонии Малера.
— Как Десятой?
— Какой-то англичанин сделал редакцию по малеровским наброскам. И Орманди с Филадельфийским оркестром исполнил это. Я сел слушать и понял, что не могу слушать такое один. Пошли, пошли скорее.
Мы сели в его комнате и включили пластинку.
Над Десятой симфонией Малер начал работать в последнее лето своей жизни. Он был уже фактически приговорен врачами. Врачи уже сказали ему, что у него такая болезнь сердца, с которой он больше двух или трех месяцев не проживет. Ну, может, не прямо так выразились, но достаточно ясно. И он бросился скорее записывать, скорее заканчивать. Но не успел, умер. Осталась рукопись. Первая часть была даже инструментована. А другие части были в набросках. Идут четыре строчки, потом указано: «труба», или «валторна», «тромбон», «виолончели», alle geige, alle violinen. Указание просто, указание к действию тому, кто будет писать партитуру.
О существовании рукописи впервые стало известно от Шёнберга. Он написал тогда (сегодня не только музыканты знают эти поразительные слова): «О том, что должна была сказать его Десятая симфония (мы располагаем лишь набросками к ней, так же как и к бетховенской Десятой), мы узнаем так же мало, как в случаях с Бетховеном и Брукнером. Как видно, Девятая — это некий рубеж. Кто хочет перешагнуть его, должен уйти. Наверное, Десятая возвестила бы нам нечто такое, чего нам не дано знать, для чего мы еще не созрели. Создавшие Девятую подходят слишком близко к потустороннему. Быть может, загадки этого мира были бы разгаданы, если бы один из тех, кому ведом ответ, написал бы Десятую. А так не должно быть. Сущность гения в том и состоит, что он — будущее… Гений светит нам впереди, а мы силимся идти за ним. Но достаточны ли, на самом деле, наши усилия? Не слишком ли мы привязаны к сегодняшнему дню? Мы будем идти следом, потому что это наш долг. Хотим мы этого или нет. Ибо нас тянет туда. Лишь настолько Малер имел право выдать нам тайну будущего; когда он захотел сказать больше, его отозвали прочь… Но мы — мы должны еще бороться, ибо Десятая и поныне не возвещена нам».
Говорили, что вдова Малера Альма будто бы просила Шостаковича посмотреть черновики Десятой и, если удастся, что-то оркестровать. Уверен, что это легенда — иначе Шостакович наверняка бы мне рассказал.
Когда готовились отмечать столетие Малера, в шестидесятом году, британский музыковед Деррик Кук, работавший на Би-би-си, стал изучать манускрипт Десятой и пришел к выводу, что Малер осуществил свой замысел почти до конца, черновик представляет собой почти законченную симфонию.
И Кук взялся за колоссальную работу. Он нота за нотой расшифровал практически нечитаемые места в рукописи. И тогда же, к столетию Малера, несколько частей из Десятой впервые прозвучали по радио.
Вдова Малера, Альма, этой передачи не слышала. Но дальнейшие исполнения она категорически запретила. Говорят, на нее повлиял Бруно Вальтер — он был возмущен самой идеей домысливать за Малера.
Вскоре Вальтера не стало, и Альму все-таки убедили послушать ту запись. Я, признаться, не думаю, судя по многим обстоятельствам, что Альма понимала, кто такой ее муж. Но когда она услышала запись, то была потрясена. И дала разрешение на исполнение версии Кука. Именно так и написано на партитуре: «Оркестровая версия Деррика Кука», ничто иное.
Вот эту версию мы с Локшиным и слушали.
Впечатление было огромным. Я лично был просто ошеломлен. Что это за музыка… В первой же части есть места, когда тебя как будто за волосы тащат кверху, с такой колоссальной силой, что невозможно слушать сидя, — и потом звучит невероятный аккорд, который при анализе оказался аккордом двенадцатитонной системы: в нем все ноты есть. Шура считал, что это звучит небесный орган. Орган с неба, небесных сил орган. Этот страшный аккорд охватывает душу. Перед концом первой части он повторяется, но уже несколько иначе, а потом голоса по очереди сходят, сходят, сходят на нет и растаивают. Начинается вторая часть — «Пургаторий». Чистилище. Монотонно работает налаженный механизм, чиновник передает чиновнику формуляры: вот прибыл такой-то, вот его грехи, вот заслуги, — этого в рай. А вот другой: заслуги, грехи — в преисподнюю. Идет работа, техническая работа: определяют, кому куда. Суд идет, Страшный суд. И вдруг снова полный боли и ужаса аккорд. Спустя годы в рукописи я прочитал над ним надписанные Малером слова: «Отче, для чего Ты Меня оставил?» Последние слова Христа. Нужно было найти для этого аккорда особое звучание. Это душа кричит от страшной боли, сам Спаситель кричит.