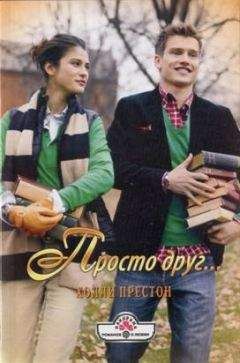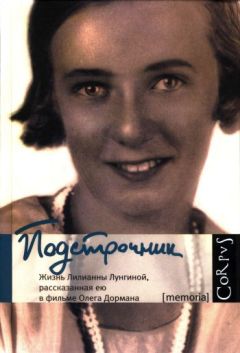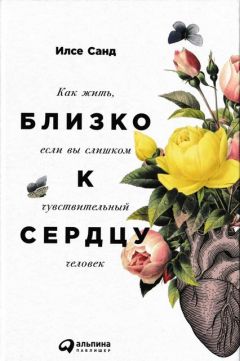Олег Дорман - Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана
Шурины родители, насколько я знаю, были не очень образованными людьми, но мама любила музыку, знала оперу, и сына определили в музыкальную школу. Я не раз думал, почему в музыке так много евреев. Ну, во-первых, они очень музыкальны и были очень музыкальны еще в древности. Назову вам только одно имя: царь Давид — и дальше не надо продолжать, все понятно. Какие неподражаемые певцы сохранились до наших дней в синагогах, какие канторы! Тосканини услышал такого в нью-йоркской синагоге и сказал: «Всё, своего тенора я нашел».
Итальянская душа тоже очень музыкальна — но тут второе обстоятельство: мало какие пути были открыты евреям. Музыка — один из немногих. И все равно, все равно — вспомните судьбу Малера. Он искренне любил церковную музыку, но стать католиком был вынужден не из-за этой любви, а по необходимости. Хотя в конечном счете ради музыки.
Учился Шура у бывшего профессора Петербургской консерватории, пианиста Алексея Федоровича Штейна, которого выслали в Сибирь в тридцатые годы. В Сибири с царских времен собирались исключительные таланты.
Штейн отправил Шуру к своему другу Нейгаузу, в Москву, и тот был поражен и способностями, и познаниями Локшина. Локшин стал учиться у Мясковского. Жил в общежитии, у них с соседом были одни приличные брюки на двоих, так что если один должен был выйти, второй сидел дома. Уже в те годы Локшин глубочайшим образом изучал новую западную музыку. Именно тогда Малер стал его богом. Два солнца были у Шуры: Бах и Малер. Но Бах в защите не нуждался, а Малер, как я рассказывал, в те годы был запрещен. Однажды Локшин сыграл Мясковскому Четвертую симфонию Малера на фортепиано, целиком, все части, и говорит: «Ну неужели, Николай Яковлевич, вам не нравится?» А Мясковский, который Шуру очень любил и ценил, ему ответил: «Нравится, но только потому, что вы так играете».
Локшина приняли в Союз композиторов, еще когда он был студентом. А потом он написал дипломную работу: три пьесы для сопрано и симфонического оркестра на стихи Бодлера «Цветы зла». Написать в те годы на текст Бодлера… Сегодня трудно понять, что это был за безоглядный шаг. Локшина немедленно лишили диплома консерватории и не допустили до государственных экзаменов. Что сделал Мясковский, светлая ему память: он собственноручно написал Локшину справку, где очень хорошо о нем отзывался, и поставил консерваторскую печать, хотя не имел на это никакого права и очень рисковал.
Тут началась война. Шура немедленно записался в ополчение, он старше меня на четыре года. Тогда многие студенты консерватории ушли добровольцами, и почти все они погибли в битве за Москву. Но у Локшина открылась страшная язва желудка, и его комиссовали. Шура стал дежурить на крыше консерватории, сбрасывать «зажигалки», а потом поехал к семье в Новосибирск. А там сестра болеет туберкулезом, отец умирает от истощения, мама работает круглые сутки. Шура записался в концертную бригаду при самолетном заводе, стал выступать в госпиталях. И там, в Новосибирске, сочинил симфоническую поэму «Жди меня» на стихи Симонова. А в Новосибирске в эвакуации находился оркестр Мравинского. И он исполнил эту поэму. Перед концертом выступил со вступительным словом Иван Иванович Соллертинский, гениальный музыковед, просветитель, один из светочей того времени, — через год там же, в Новосибирске, он умер совсем молодым человеком. Соллертинский был крупнейшим знатоком Малера и Шёнберга и самым близким другом Шостаковича. Именно через Ивана Ивановича Шостакович как бы принял эстафету от Малера, и вообще Соллертинский очень многое определил в музыкальном становлении Д. Д., и память о нем была всегда для Шостаковича священна. Так вот, перед исполнением «Жди меня» Иван Иванович сказал публике: «Я не буду особенно распространяться о произведении начинающего композитора Локшина. Скажу просто: этот день войдет в историю русской музыки».
После этого жизнь Локшина снова переменилась. Наверху вняли настойчивым просьбам Мясковского, разрешили Шуре сдать госэкзамены и в качестве дипломной работы приняли «Жди меня». Более того, благодаря Мясковскому после войны Локшин стал преподавать в консерватории оркестровку.
Правда, это одна сторона дела. Другая состоит в том, что после слов Соллертинского Локшин в течение десяти лет не мог написать ни одной ноты, он был как бы парализован творчески. Вот как, бывает, надо осторожно хвалить начинающих.
В сорок восьмом году Александра Лазаревича вышвырнули из консерватории за пропаганду среди студентов музыки Малера, Стравинского, Альбана Берга и, само собой, Шостаковича, и после этого никогда — подчеркиваю: никогда — не разрешали преподавать. Ни после смерти Сталина, ни в шестидесятые годы — никогда. Что только не делал Мясковский, другие люди, Елена Фабиановна Гнесина, Мария Вениаминовна Юдина — легендарная пианистка, о которой я еще расскажу, — чтобы помочь Локшину. Тщетно. С сорок восьмого года Локшина никогда никуда не брали на работу. Зарабатывал он тем, что время от времени писал для кино — которое вообще-то не любил, не считал искусством — за исключением Чаплина.
А вскоре произошла трагедия, страшная, чудовищная и очень выражающая эпоху, в которую мы жили. Локшин вычислил в своем окружении стукача, доносчика. И дал тому человеку понять, что знает. После этого, сразу, были арестованы несколько Шуриных знакомых. Локшина, которому только что сделали тяжелую операцию на желудке, прямо из больницы привезли в НКВД, или как он тогда назывался, и потребовали, чтобы он дал на этих людей показания. Он отказался. Тогда НКВД поступил, как часто поступал в подобных случаях: Локшина оговорили перед арестованными людьми, уверили в том, что он донес на них. Эти люди поверили. Когда они в хрущевские времена вышли на свободу, то обвинили Локшина. Я убежден, что среди тех, кто особенно активно распространял этот слух, были не только люди, не понимавшие тогда всего коварства чекистов, но прежде всего завистники, бездари, знавшие, что никогда не смогут создать в музыке ничего равного Локшину. Близкие люди, знавшие его, конечно, ни на секунду не поверили. Локшин был человек несоветской совести. Его сын, математик, уже в горбачевские годы провел целое большое расследование, чтобы собрать документы и свидетельства, которые подтвердили бы невиновность его отца, выпустил книгу. Но к тому времени его отца уже не было в живых.
Локшин сидел дома и писал. Он почти не выходил. В пятьдесят седьмом году он написал свою первую симфонию: «Реквием» на канонический латинский текст. Я хочу прочитать вам отзыв Марии Вениаминовны Юдиной из ее письма другу, оно теперь опубликовано.
…Должна Вам сообщить нечто величественное, трагическое, радостное и до известной степени тайное. Слушайте: я написала письмецо — «профессионально-деловое» по одному вопросу в связи с Малером Шуре Л., который его знает, как никто. В ответ он написал мне, что очень просит меня повидаться с ним. Я согласилась. Вчера он сыграл мне свой «Реквием», который он писал много лет, вернее, «подступал к нему» и бросал и наконец «одним духом» написал его два с половиной года тому назад. На полный текст такового, полнее Моцарта. Что я сказала ему, когда он кончил играть? — «Я всегда знала, что Вы гений». <…> Да, это так, и это сильнее многих, из-за кого я «ломаю копья», и равно теперь только Ш. [Шостаковичу] (не последнему…) и Стр. [Стравинскому]. Сыграно это сочинение быть не может ни у нас, ни не у нас, что понятно… Это — как Бах, Моцарт, Малер и эти двое. Он совершенно спокоен, зная, что это так и что оно не будет исполнено. Ш. теперь просто боготворит его. Знают об этом немногие. <…> Может быть, и никому не надо говорить. — Я рада, что человек осуществил свою задачу, не зря живет на свете, что я не ошиблась, веря в него, и не ошиблась, помогая ему в обычной жизни, и была ему другом в тяжелые дни и часы.