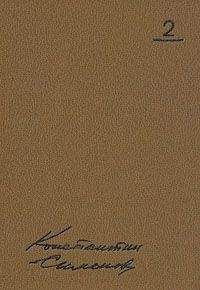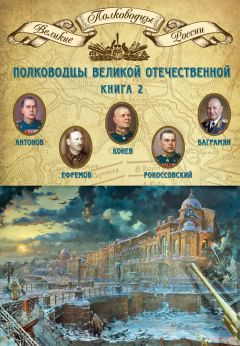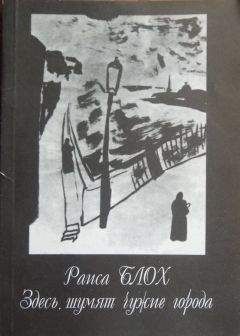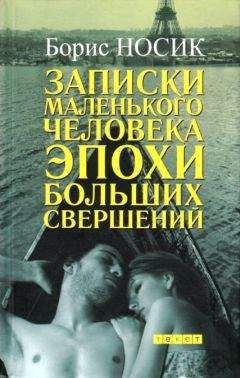Борис Носик - Здесь шумят чужие города, или Великий эксперимент негативной селекции
Черта эта — стыдливость, или юродство, или лукавство, или, быть может, еще неосознанный инстинкт, — лежит в самой основе русского человека. В его жилах текут две крови: прозрачная — кровь запада и дымная — азиатская кровь. Еще не умом, но кровью русский человек знает больше, чем человек запада, но инстинкт его до времени велит охранять это знание крови. Отсюда — лукавство, заслончики в тех местах, где вот-вот откроется провал в вечность, отсюда юродивое бормотанье Достоевского, отсюда — хитрый, раскосый глаз в уголку каждой картины Судейкина.
…Судейкин соединяет в себе два известных противоречия, две культуры: Восток и Запад. Давнишний спор о путях русского искусства дает, в лице Судейкина, сильный перевес тем, кто утверждает, что культурная миссия России — в соединении двух миров, Востока и Запада, двух враждебных… миров…».
Понятно, что завершал свою заметку сменовеховский писатель из советского «Накануне» (уже собравшийся тогда в голодающее Поволжье за стерлядью) не за упокой, а за здравие («Россия будущего — благодать изобилия, цветение земли, мировая тишина»), хотя другу-живописцу характеристику для почетной поездки обратно на родину дать отказывался:
«Определить этого поэта-живописца, то русского Ватто, то суздальского травщика, так же трудно, как трудно выразить словом славянскую стихию: какое-то единственное сочетание противоречий.
Бывают в России такие лица: строгие, серые, раскольничьи глаза и усмешка рта, не предвещающие доброго. Эти лица не забываются, очарование их волнует…».
В том же 1922 году, когда вышел номер «Жар-Птицы» с очерком Алексея Толстого, в Праге вышла книжка профессионального искусствоведа Сергея Маковского (в недавнем прошлом «папы Мако» из журнала «Аполлон») «Силуэты русских художников», и там, говоря о несомненной русскости космополитов из «Мира искусства», вроде Бенуа и Сомова, Маковский задерживается на Сергее Судейкине и его друге, «любителе кукольных парадоксов», Николае Сапунове:
«Не отнимешь русскости и от последователя Сомова в области ретроспективных идиллий, Судейкина — своевольного, эфемерного, кипучего, изобретательного и противоречивого Судейкина, словно из рога изобилия забрасывавшего выставки „Мира искусства“ своими пасторалями, аллегориями, каруселями, бумажными балеринами, пастушками, овечками, амурами, фарфоровыми уродцами, игрушечными пряностями и витринными безделушками, оживленными куклами всех видов и раскрасок из фейных королевств Андерсена и Гофмана, из зачарованного мира детских воспоминаний и смежного с ними мира, где все невозможное кажется бывшим когда-то и все бывшее невозможным. Не только русский поэт, но и москвич типичный, с примесью пестрой азиатчины, этот неутомимый фантаст, играющий в куклы так далеко от современности, и вместе с тем такой ей близкий, мыслимый только в нашу эпоху, противоречивую и хаотическую, ни во что не верующую и поверившую всем сказкам красоты».
На той же странице этой ранней эмигрантской книги Маковского есть и характеристика Николая Сапунова, бедного друга Коли, которого смерть уже подстерегала перед войной:
«Не менее подлинным москвичом был и Сапунов, с которым у Судейкина много общего и который состязался с ним в театральных выдумках, — автор туманно-пышных букетов пастелью и звенящих красками ярмарочных каруселей, тоже любитель кукольных парадоксов, причудливых масок и всякой „гофмановщины“ на московский образец, включая и народный гротеск и трактирную вывеску, — чувственник цвета, единственный в своем роде, автор непревзойденных красочных сочетаний, вдохновившийся „Балаганчиком“ Александра Блока и шнитцлеровским „Шарфом Коломбины“».
Если вернуться, однако, из Берлина и Праги 20-х годов в Санкт-Петербург 1906 года, то можно вспомнить, что очарование судейкинского лица, и творческого и просто юношеского, подсказало много пылких слов поэту, который стал легендой Петербурга в том самом 1906 году, когда была напечатана в брюсовских «Весах» его повесть «Крылья», содержавшая, по словам современных критиков, «своего рода опыт гомосексуального воспитания», и написаны стихи цикла «Прерванная повесть». Речь идет о повести и стихах Михаила Кузмина. Судейкин писал в ту пору портрет Кузмина, и поэт увековечил этот акт в своих стихах, снискавших похвалы Брюсова и Белого:
Любовь водила Вашею рукою,
Когда писали этот Вы портрет,
Ни от кого лица теперь не скрою,
Никто не скажет: «Не любил он, нет».
…Лишь слышу голос Ваш, о Вас мечтаю,
На Вас направлен взгляд недвижных глаз.
Я пламенею, холодею, таю,
Лишь приближаясь к Вам, касаясь Вас.
И скажут все, забывши о запрете,
Смотря на смуглый, томный мой овал:
«Одним любовь водила при портрете,
Другой — его любовью колдовал».
Художник и поэт встречаются в ту пору и в Театре Комиссаржевской, который открылся в ноябре того же 1906 года:
Переходы, коридоры, уборные,
Лестница витая, полутемная…
Вы придете совсем неожиданно,
Звонко стуча по коридору —
О сколько значения придано
Походке, улыбке, взору!
Сладко быть при всех поцелованным.
С приветом, казалось бы, бездушным,
Сердцем внимать окованным
Милым словам равнодушным.
Как люблю я стены посыревшие
Белого зрительного зала,
Сукна, на сцене созревшие,
Ревности жало!
Сомов не избежал общества знаменитого поэта Кузмина и написал его портрет
В этой красноречивой хронике любви описан и вечер, когда композитор и поэт Кузмин играет возлюбленному свои «Куранты», и счастливый день, который они проводят вместе…
Вы сегодня милы, как никогда не бывали,
Лучше Вас другой отыщется едва ли.
Приходите завтра, приходите с Сапуновым —
Милый друг, каждый раз Вы мне кажетесь новым!
Но уже из пятого стихотворения судейкинского цикла Кузмина мы узнаем, что этой любовной истории не суждено было стать настоящим романом, а только повестью, да и то «прерванной повестью», потому что друг поэта «уехал без прощанья», оставив в подарок картонный домик.
Милый подарок, ты — намек или предсказанье?
Мой друг — бездушный насмешник или нежный комик?
Если на этот последний вопрос трудно было ответить Кузмину или А. Н. Толстому, знавшему Судейкина неплохо, то где уж дознаться нам с вами за вековой преградой времени? Доверимся старым стихам… Вот Кузмин узнает, что Судейкин вернулся в Петербург, но не приходит, не дает о себе знать…