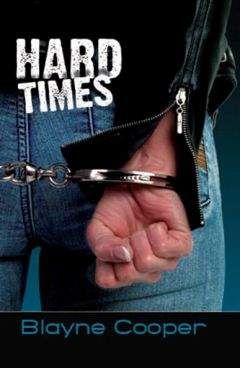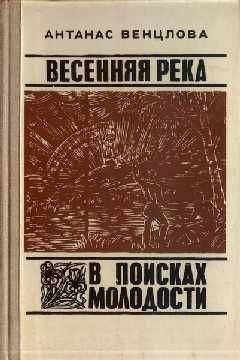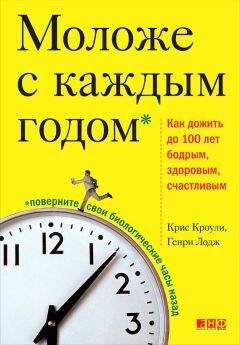Антанас Венцлова - В поисках молодости
Вскоре наш отряд должен был получить пополнение. Возникла мысль (кажется, одновременно у нас и у издателей «Культуры») предпринять шаги и вызволить из Шяуляйской тюрьмы Костаса Корсакаса, тем более что до нас дошли вести о его плохом здоровье. Мысль неожиданно нашла поддержку у писателей старшего поколения. Под прошением об амнистии подписались Винцас Креве, Фаустас Кирша, Балис Сруога и еще кое-кто. Прошло какое-то время, и в конце октября я получил письмо от Костаса из родной деревни. Мы все радовались тому, что Корсакас уже на воле, и надеялись быстро с ним увидеться.
Чем дальше, тем больше было откликов в печати на «Третий фронт». Новых его номеров с нетерпением ждали учащиеся, и рабочие. Его читали в деревне и городах. О нем постоянно упоминали литературные семинары в университете, его обсуждали политзаключенные. Он вызывал ярость у реакции — у клерикалов и фашистов. А мы между тем готовили уже четвертый номер журнала. «Вскоре выйдет «Фронт», — писал я Винцасу Жилёнису в начале 1931 года, — разумеется, не такой, как бы я хотел, потому что господин главный редактор (цензор) по-своему его переделал».
Мы уже получали московскую «Литературную газету», журнал для молодых писателей «Литературная учеба», по рукам ходил не только Маяковский, но и другие советские поэты — Тихонов, Безыменский, Сельвинский, а также теоретическая литература марксизма-ленинизма. Мы хорошо знали, что по этой теории создается новый мир — Советский Союз, в то время еще мало понятный для нас, но тем более интересный.
Балис Сруога, руководивший в университете театральным семинаром (я иногда посещал этот семинар), часто рассказывал студентам о московских театрах, об их высоком уровне, воспевал МХАТ и с пылом толковал систему Станиславского. Стараясь не касаться политической системы Советского Союза, профессор вызывал у нас интерес к нему и к тамошним переменам. Возникла мысль устроить поездку интеллигенции в Москву, познакомиться с лучшими ее театрами, пройти по главным музеям — мы уже слышали о Третьяковской галерее. В экскурсию старались попасть прежде всего литераторы, в том числе и Саломея Нерис. Все шло довольно гладко — мы копили деньги, заполняли нужные анкеты и ждали пасхальных каникул, на которые была намечена экскурсия.
«Твоя поездка в Москву была бы прекрасным делом… — писал Костас. — Я думаю, после твоей поездки для нас многое бы стало ясным, кроме того, мы бы чуть сблизились с русской литературной жизнью. Я считаю, что ты непременно должен официально сойтись с русскими писателями младшего поколения и рассказать им про «Третий фронт». По-моему, пора что-нибудь перевести из творчества Асеева, Тихонова, Саянова и других».
Поначалу выразив согласие, власти принялись выискивать придирки. Узнав, что меня не выпускают, Сруога посоветовал:
— Сходи сам в Министерство внутренних дел к Навакасу (тогда он был директором какого-то департамента) и сам выясни с ним дело.
Долго не думая, я отправился в министерство. За столом сидел невысокий человек с темными, зализанными назад волосами — господин Навакас.
— Ваши взгляды несовместимы с целью экскурсии, — дипломатично ответил он на мой вопрос. — Не пустим.
Говорить было не о чем, и я ушел.
«Я тоже хотела ехать, меня приняли, — позднее писала мне из Лаздияй Саломея Нерис. — Я радовалась, что увижу эту удивительную страну с ее новой культурой. Хотела все увидеть собственными глазами, потому что не могу верить той клевете и испуганным крикам, которыми пестрит наша печать».
Просидев несколько лет в тюрьме, вышел на волю Витаутас Монтвила. Я списался с ним и пригласил сотрудничать в нашем журнале, хоть и знал его прежнюю неприязнь к «Третьему фронту». Видно, что его мнение изменилось, потому что он ответил: «Что касается материала для «Третьего фронта», то, может быть, перед пасхой что-нибудь пришлю. Сейчас я делаю новую книгу (названия еще нет), пришлю что-нибудь из нее. Также новые стихи. После всех бурных событий от моего старого «я» остались лишь обломки… Хоть бы где-нибудь — как-нибудь, — хоть что-нибудь заработать!» Поэта преследовали нищета, безработица, безденежье — и тогда, и позже, всю жизнь. Увы, мы ничем не могли ему помочь.
Четвертый номер получился интересней, чем прежний. В нем уже не было и речи ни о «парне», ни о неореализме, который, по мнению Йонаса Шимкуса, должен был явить собой своеобразное соединение старого реализма с экспрессионизмом, футуризмом и прочими течениями современной литературы. Исчезли общие фразы и расплывчатая левизна — мы говорили яснее и подчеркивали необходимость тесной связи литературы с жизнью.
«Сейчас, когда на всем земном шаре идет решительный бой между двумя мирами, между двумя обществами, — писал я в передовице номера, — приходится особенно следить за тем, чтобы каждое слово било в цель, разоблачало отжившее общество и разрушало его прогнившие дрожащие подпорки.
Сейчас, когда во всем мире вооружаются для новой империалистической войны, которая будет куда страшнее и отвратительнее, чем все прежние, против которой поднимают голос люди труда и лучшие писатели всех стран, мы также подчеркиваем, что одна из главнейших задач текущего момента для нас — это борьба всеми доступными нам способами против этого варварства цивилизованного человечества.
Мы уже не раз говорили, что искусство для нас — не бессмысленное словоблудие и вопли о неземных благах. Искусство для нас — инструмент, рычаг, при помощи которого мы рушим все, что прогнило, и строим все, что растет.
Мы стремимся к тому, чтобы наше слово всегда волновало, тревожило, сердило, раздражало, радовало, подстегивало».
Пятрас Цвирка дал для этого номера стихотворение-репортаж «Человек родился», где сравнивал судьбу буржуйского ребенка и сына пролетарки Антоси. Стихотворение кончалось такими строками:
Сын Антоси.
Рука его понесет знамя,
плакаты расклеит,
красный ячмень посеет.
Рот его — слов пулемет,
гармонь — повстанцев марш.
Пролетариат!
Сын Антоси —
шаг к великому будущему
эпохи великой!
Райла написал длинную антикапиталистическую поэму «20 000 000».
Казис Борута прислал рассказ «Деревянные чудеса», который позднее превратил в большую повесть под тем же названием. Йонас Шимкус напечатал вторую часть своего рассказа «У падающей воды».
Костас Корсакас тогда писал о «Тенденции и литературе», доказывая, что в классовом обществе не может существовать нетенденциозная литература, что мы стремимся выразить настроения прогрессивных слоев общества. Новый наш сотрудник Валис Драздаускас издевался над Гербачяускасом, Якштасом и благоприятно отзывался о некоторых советских изданиях. Это была новость для легальной литовской печати. Мы отметили 65-летний юбилей Ромена Роллана, подчеркнув прогрессивность великого писателя, его антиимпериалистические настроения и решимость защищать Советский Союз (статью о Роллане написал Пранас Моркунас). Были помещены также переводы Бехера, латышских левых писателей — Лайцена, Курция. Все это резко изменило лицо журнала.