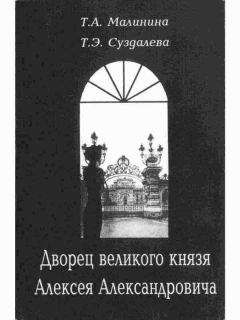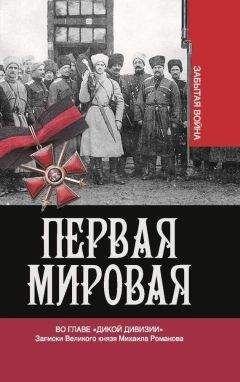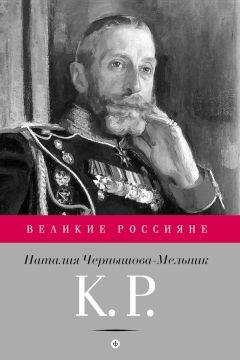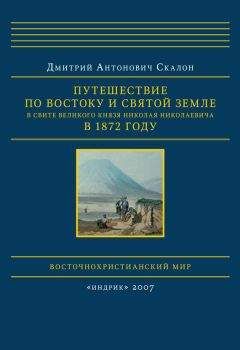Валерий Шубинский - Зодчий. Жизнь Николая Гумилева
Возможно, именно в этот раз Анна «после очень нежного свидания со мной вдруг заявила: «Я влюблена в негра из цирка. Если он потребует, я все брошу и уеду с ним». Я отлично знал, что никакого цирка в Севастополе нет, но все равно по ночам кусал руки и сходил с ума от отчаяния» (Одоевцева). Разумеется, шутка про «негра» была аллюзией на африканские мотивы «Романтических цветов».
Казалось, юношеские «годы странствий» подходят к концу. Но Гумилеву предстояло еще одно путешествие — прежде чем начнется не слишком долгий период оседлой жизни.
6
Уже в июле Гумилев пишет Брюсову о своем намерении отправиться осенью «в Абиссинию».
Откуда возникла Абиссиния? К этому мы еще вернемся ниже — когда Гумилев все же доберется до этой страны.
Намерение же вновь уехать из России — результат тяжелого душевного кризиса, пережитого, по всей вероятности, в середине 1908 года.
Лето Гумилев проводит в основном в деревне — в Березках (в последний раз — имение Гумилевы продали), а затем в Слепневе. Родовое имение Милюковых (составлявшее в тот момент 250 десятин) перешло к Гумилевым после смерти дядюшки контр-адмирала Льва Ивановича Львова (1894) и его жены Любови Владимировны (1907). Точнее, теперь у Слепнева было три владельца — Анна Ивановна Гумилева, Варвара Ивановна Лампе и Борис Владимирович Покровский, кузен Гумилева, сын Агаты Ивановны. Но Варвара Ивановна передала свою долю дочери — Констанции Фридольфовне Кузьминой-Караваевой, а часть, принадлежавшую Покровскому, Гумилевы и Кузьмины-Караваевы выкупили. Таким образом, имение принадлежало пополам двум родственным семьям. У Кузьминых-Караваевых было трое детей — Сергей, ровесник Николая, и две дочери — Ольга и Мария. О них у нас еще будет повод упомянуть. Едва ли имение приносило сколько-нибудь заметный доход. Крестьяне «тверской скудной земли» были вечно в долгах перед «барыней» и ее родственниками. Позже, в 1912 году, по случаю рождения Льва Гумилева долги за несколько лет простили; без сомнения, на смену им выросли новые.
В Царском Селе Гумилев лишь ненадолго появляется в августе — за эти две-три недели он успевает (нарушив принятое, казалось бы, в Севастополе взаимное решение) мимолетно встретиться с приехавшей сюда Анной Горенко. Видимо, любовь, обида, уязвленное самолюбие продолжали мучить его. Гумилев сделал все, чтобы остаться в памяти культуры «сильным человеком» — и у него это вышло. Но пока мы видим мальчика, буквально раздавленного двумя сильными людьми — взрослым мужчиной, который согласился стать его строгим учителем, и девушкой, которая не отвечает ему взаимностью. Человек, в конце жизни видевший доблесть в том, чтобы, получив отказ, «улыбнуться, и уйти, и не возвращаться больше», — в юности вел себя совершенно иначе.
Но это не было единственной причиной его дурного настроения.
Литературные дела Гумилева на первый взгляд шли благополучнее некуда. «Успех продолжает меня преследовать, — пишет он Брюсову 20 августа. — Мною заинтересовался Петр Пильский, пригласил в «Новую Русь». В «Речи» мне хотят прибавить гонорар. Я никогда не думал, что все это может быть так неинтересно». Тем временем «Скорпион» изъявляет желание издать со временем его следующую книгу. Но при этом молодой поэт чувствует себя еще неуверенней, чем прежде.
Все это время совершался перелом во взгляде на творчество вообще, а на мое в частности. И я убедился в своем ничтожестве. В Париже я слишком много жил и работал и слишком мало думал. В России было наоборот; я научился судить и сравнивать… Ваше творчество отмечено всегдашней силой мысли. Вы безукоризненно точно переводите жизнь на язык символов и знаков. Я же до сих пор смотрел на мир «пьяными глазами месяца» (Нитше), я был похож на того, кто любил иероглифы не за смысл, вложенный в них, а за их очертания и перерисовывал их без всякой системы… Надо начинать все сначала или идти по торной дорожке Городецкого.
Здесь любопытен трезвый взгляд на творчество сверстника, который через несколько лет станет товарищем и сподвижником Гумилева. Такое же трезвое понимание пустоты звучных стихов рано вошедшего в моду Городецкого видно и в гумилевской рецензии на книгу «Русь», напечатанной впоследствии в первом номере «Аполлона». Но по отношению к Брюсову о трезвости не было и речи. Гумилев никак не понимал, что время ученичества кончилось, что учитель больше ничего не может ему дать — особенно в том, что касается духовной сущности поэзии.
Между тем уже зимой — весной 1908-го из-под пера Гумилева выходят такие неожиданно зрелые — прежде всего по мироощущению — вещи, как «Выбор» и «Основатели». В этих стихах, может быть, впервые прорывается та весть о «месте человека во Вселенной» (цитируя его великого друга), которую несут вершинные гумилевские книги — «Костер» и «Огненный столп».
Но молчи: несравненное право —
Самому выбирать свою смерть.
И:
«Здесь будет цирк — промолвил Ромул, —
Здесь будет дом наш, открытый всем».
«Но надо поставить поближе к дому
Могильные склепы», — ответил Рем.
И уже совсем немного отделяло Гумилева от его первых шедевров — таких как «Заводи» или «Молитва».
5 сентября 1908 года Гумилев пишет Кривичу:
…Очень и очень сожалею, что не могу воспользоваться Вашим любезным приглашением, но я уезжаю как раз сегодня вечером. Ехать я думаю в Грецию, сначала в Афины, потом по разным островам. Оттуда в Сицилию, Италию и через Швейцарию в Царское Село. Вернусь приблизительно в декабре.
Таким образом, покидая Петербург, поэт сам не знал, куда направляется — то ли в Швейцарию, то ли в Абиссинию. Денег при этом с собой у него было очень мало — очередное «паломничество Чайльд-Гарольда» совершалось вопреки воле отца. Скорее всего, Гумилев потратил на него гонорары из «Речи».
7 сентября Гумилев приезжает в Киев, где проводит два дня.
9 сентября он выезжает в Одессу, откуда 10-го в 4 часа пополудни на пароходе Русского пароходного общества через Синоп, Бургос, Константинополь, Салоники отбывает в Александрию.
В Египет он прибыл 1 октября и провел там пять дней.
Египетская история и культура в начале XX века были для европейцев несколько более экзотичны и таинственны, чем для нас. Собственно, до наполеоновской эпохи европейцы знали о Египте только то, что поведали им греки. А для греков Египет с его пирамидами, сфинксами, царственным инцестом тоже был загадкой — соблазнительной и раздражающей, как всякая древняя, пережившая свой золотой век цивилизация для цивилизации молодой. Эллины и презирали варваров из нильской дельты, и приписывали им невероятные познания, восходящие к незапамятной древности. Эти представления унаследовала средневековая Европа. В XVI веке Европу охватило увлечение «герметическими книгами», из которых якобы почерпнули всю свою мудрость Платон и другие греческие философы. Адептами герметизма были Парацельс и Джордано Бруно. Уже спустя столетие было доказано, что эти сочинения, приписывавшиеся некоему Гермесу Трисмегисту, египетскому магу, — подделка поздней эллинистической эпохи. Но оккультисты XIX века, которых читал Гумилев в Париже, охотно ссылались на герметическую премудрость. «Египетские жрецы забыли многое, но они ничего не изменили…» — писала, в частности, Блаватская. По ее словам, «тайные знания», содержащиеся в египетских свитках, восходят к Атлантиде.