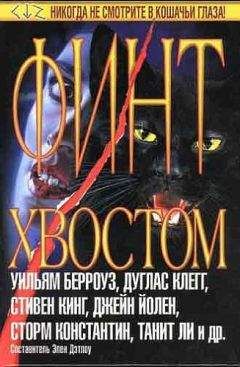Любовь Скорик - Произведения
Игнатьич сел поудобнее, приосанился, даже плечи развернул по молодому. Вот сейчас, сейчас нагрянет, всколыхнёт душу. Он глянул вокруг и только сейчас уразумел, что день-то сегодня точь-в-точь, как тот далёкий день его детства, из которого и проросла в душе мечта. Хоть и август только, но преждевременная осень уже осела на деревах, правда ещё легко, вскользь, вызолотив только верхний слой листвы, а сквозь эту позолоту просвечивает совсем ещё летняя зелень. Заросли рябины полнятся краснотой. И кое-где уже ало пламенеют осины. "Во как подгадало, в самый раз!" — отметил Игнатьич и снова стал ждать, когда захлестнёт душу та, полузабытая уже, дурманящая радость. Но она пока медлила. Вместо неё он почуял, что на ветру от близости железа руки возле мотора совсем окоченели. Брызги заносит в лодку и мокрит одежду. Тоже мне, делают! Не могли, что ли, повыше борта надстроить! В нём поднималось глухое, невнятное раздражение. Игнатьич наддал оборотов в надежде, что скорость высечет из души, выбьет образовавшуюся там тяжёлую накипь. Однако и бешеная скорость не помогала.
Он искал в себе хоть каплю своей далёкой безоглядной радости, хоть отблеск, слабое напоминание того, что все эти долгие годы ожидал. Искал и не находил. И тогда Игнатьич понял, что все его ожидания напрасны. Всё давно перегорело в нём. Он слишком долго ждал!
Игнатьич приткнул лодку к берегу, лёг на пожухлую траву и стал глядеть в опрокинутую над ним синь. В душе было пусто, и пустота эта саднила, сквозила холодом. "Дак что же это такое? — дивился Игнатьич на себя как бы со стороны. — Значит, ждал, ждал — и дождался?! Или уж и радоваться разучился? А может, вовсе и не умел никогда? Он стал будить в себе воспоминания о чём-то светлом, радостном.
Взять хотя бы женитьбу. Повезло же ему с Варварой, ещё как повезло! Да, а много ли он радовался-то этому? Только и осталась в памяти светлой блёсткой их первая сенокосная ночь. А после — была ли она, радость-то? Если и была, то не докопаться до неё сквозь толщу всяческих забот: это не сделано, то ещё не куплено, там прореха в хозяйстве, здесь нет полного порядка… А дети?! Родился Иван — расстройство, несолидно выходит: дом ещё не построил, а дитё уж народил. Петpa Бог послал — опять не вовремя, вот если бы годика через два, тогда бы уж в самый раз…
Ну уж дудки! — воспротивился сам себе Игнатьич. — Что же это, жизнь у меня несчастная, что ли? Да мне любой позавидует: дом в деревне — лучший, обстановка, хозяйство, огород — всем на зависть. Да, дом… Вспомнилось, через какие муки он ему достался, этот самый дом. Как цвели ладони кровавыми мозолями, как спал, не раздеваясь, чтобы не заспаться, соскочить ещё потемну и до рассвeтa уже наработаться, как валилась с ног от работы той Варвара. У него и новоселья-то не было: въехал в дом недостроенный, а потом долго ещё что-то приколачивал, подделывал, докрашивал.
Обстановка — она, тоже не даром далась. Ведь стыдно вспомнить: бывало, пива кружку не разрешал себе выпить, с Варварой в кино лишний раз не ходил — на обстановку экономил. А хозяйство, огородище… Эх, да что там! Всю жизнь в узде себя держал, всё горбатился да надсажался, а радость на потом оставлял — не до неё было. Как тот горе-винодел, что всё не хотел бочку открывать, чтоб вино получше стало да подороже потом его продать. А вино-то перестояло — уксус получился.
Вспомнилась вдруг любимая тёщина поговорка: "Дорого яичко ко Христову дню". Он не любил свою суматошную, мельтешащую в жизни тёщу — благо хоть Варвара не в неё удалась! — а эту её присказку просто терпеть не мог. Вспомнив про именины или прознав о другом каком торжестве в любом шалаевском доме, тёща без промедления бросала в разгаре самое неотложное дело и спешила в гости. И пословица эта всегда была ей достаточным оправданием.
"Ко Христову дню! Ко Христову дню!" — без устали долбило в висок, и Игнатьич в сердцах замотал головой, стараясь вытрясти оттуда завязшую в памяти тёщину присказку. Не хотелось никого видеть, ни с кем говорить. А хотелось завести на полную мощь новенькую, сверкающую краской лодку, оттолкнуть её от берега, а самому пойти в другую совсем сторону. Но он вспомнил про мужиков, которые ждут его в деревне, плюнул в реку и повернул назад…
Игнатьич покатал, как и обещал, всех желающих. Слава Богу, длилось катание недолго — Варвара уже звала всех к столу. Хлебнув, мужики ещё шибче принялись хвалить и покупку необыкновенную, и самого Игнатьича — его хозяйственность и настырность. За столом оказались даже свидетели его давнишнего, детского обещания купить моторку. Семёна вот, правда, уже нет — помер. Игнатьич пил непривычно много. Варвара слегка дивилась, но не перечила, относя это за счёт великой радости…
А ночью он разбудил жену:
— Слышь, Варвара, продам я моторку. Завтра и продам.
— Ты что, сдурел? — всколыхнулась со сна жена. — Чего мелешь-то?
— А на хрена мне загнулась эта самая моторка?
— Да ты что? Столько лет…
— Вот то-то и оно — столько лет. Раньше она мне была нужна, а теперь уж ни к чему.
— Дак деньги-то столько копили, копили…
— А деньги — они не пропадут. Вон Ивану на свадьбу надо.
— Это ещё что надумал? — окончательно проснулась и села на кровати Варвара. — Ещё не хватало! Ему только двадцать сравнялось.
— Я на тебе тоже в двадцать женился.
— Сравнил! Ты уже самостоятельным был, сам деньги зарабатывал. А этому вон ещё сколько учиться!
— Оно, мать, не спрашивает, когда накатит. Упустил — не вернёшь. Да и Петьке мотоцикл купить надо, — добавил он, помолчав.
Варвара не вполне поняла, кто накатит и чего не вернёшь. Но последние мужнины слова задёли её за самое нутро:
— А с мотоциклом — вовсе глупость! Петьке же в армию скоро идти. Только деньги загробишь, а после будет стоять, ржаветь.
— Вот и пусть хоть до армии покатается, душу отведёт. А там, глядишь, приспособят его в лётчики или моряки — дак после на мотоцикл-то свой и глядеть не захочет.
Варвара ещё поворчала, заключив, что просто перебрал нынче её Игнатьич. Он же, утвердившись в своём решении окончательно, успокоился малость, закрыл глаза. Уснуть однако не мог. И привидилась ему — ясно, будто въяве — Иванова свадьба. Без вина хмельно смотрит Иван на свою востроносенькую. А та смущается и закрывает лицо кружевной фатой… А после представил Игнатьич сумасшедшие от радости глаза Петра — какие будут они, когда нежданно прикатит ему отец из города вожделенный мотоцикл.
Представил всё это Игнатьич и почуял вдруг, что повеяло в душе чем-то давним, вроде уж угасшим в памяти. И на это едва приметное дуновение радостно отозвались и сердце, и память, и тело. Он затаил дыхание, сдержал нетерпеливую дрожь, боясь спугнуть пробуждающееся чувство. А оно уже хлынула и полнило, полнило душу! Игнатьич понял: да это же — то самое, что тщетно призывал он вчера да так и не дождался. Радость, сбережённая ещё с детства где-то в самом потаённом уголке его души, пробуждалась, вставала, расправляла смятые от долгого хранения крылья. Он вслушивался, всматривался в неё. Она была той же самой. То есть — почти той же самой. Всё же чего-то ей не доставало. Всего лишь чуть-чуть. Всего только — малой малости. Однако — не доставало.