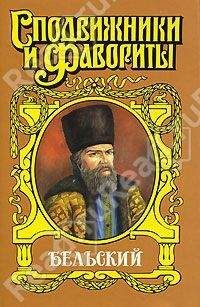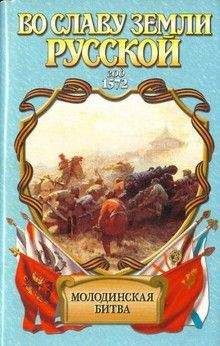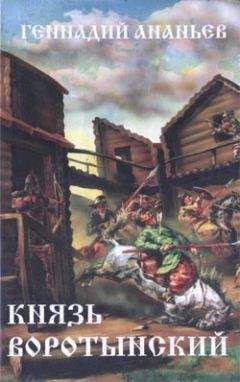Николай Любимов - Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том 1
«Зимний вечер» взволновал меня не только действенностью, светописью и звукописью описания метели в первой строфе. Мне объяснили, что «добрая подружка» – это няня поэта, Арина Родионовна. Любовь поэта к няне нашла живой отклик в моей душе – душе ребенка, для которого старушка няня до конца ее дней была самым родным, после матери, человеком.
А потом мама прочла мне три описания природы из «Евгения Онегина». Грустью отозвалось в моем сердце пушкинское описание весны. Ведь я уже тогда грустил весною – грустил в предчувствии, что мое любимое время года скоро пройдет, что самое радостное в весне – это ее преддверие, когда, «гонимы вешними лучами», бегут «мутные ручьи», а что, раз соловей «уж пел», значит, весне не сегодня-завтра конец. Вот так же грустил я, когда зацветала сирень, – грустил оттого, что каждый день ее цветения приближал меня к ее увяданию. Вот так же грустил я в первый день Пасхи: раз она началась, значит, скоро кончится. Вот так же начинал я грустить много позднее в первый же день приезда на каникулы. Как ни мучительно нетерпение ожидания, все-таки оно радостнее наступления, потому что, ожидая, еще не думаешь о конце.
Первая, очень ранняя, допушкинская встреча с поэзией Лермонтова – «Ангел». В нем была мне слышна только музыка, а в глазах стоял светлый туман… Когда я уже бегло читал и мать подарила мне лермонтовский двухтомник, я накинулся на него, как на полное собрание сочинений Пушкина в одном томе, и тоже, кроме писем, прочел его от строчки до строчки, а «Маскарад» «поставил» на импровизированной сцене.
В 64-м году, впервые приехав в Пятигорск, я побежал к памятнику. Я увидел молодого и строгого Лермонтова, опершегося подбородком на руку. Взгляд его устремлен в незримую мне даль. Он ведет с вечностью недоступную нашему слуху беседу.
Так вот он какой – тот, чьи последние песни всегда причиняют мне блаженную боль, тот, кто расслышал звездную мерцающую перемолвь, тот, кто увидел в небесах Бога, тот, чьи строфы с одинаково скорбной успокоительностью трепещут зеленым певучим трепетом листьев ветвистого дуба или рокочут синим гулом моря («А море Черное шумит не умолкая»)!.. Да, он точь-в-точь такой, каким я его себе представлял. И мне хотелось, чтобы он был таким.
Я уже знал наизусть «Сенокос» и «Весну» Майкова. И уже тогда одним из основных мерил художественности являлась для меня верность жизненной правде, возведенной в перл создания. Да, это первые звуки, по которым я, сидя дома, угадываю приход весны: как только зимние рамы вынуты, до меня долетает «благовест ближнего храма», и уже не сани скрипят по снегу, а стучат колеса по твердой земле.
А дальше – Некрасов. Я и теперь, как в детстве, вздрагиваю при звуках «Ой, полна, полна коробушка…», и сердце у меня, как в юности, заходится от ощущения широты русских просторов, от ощущения широты русской души… И от гордости за этого барина, создавшего насквозь народную песню…
Двойственное ощущение не покидало меня, когда мне читали и когда я потом уже сам читал Некрасова…
Умер, Касьяновна, умер, сердешная,
Умер, и в землю зарыт!
Ведь наскочил же на экую гадину!
Сын ли мой не был удал?
Сорок медведей поддел на рогатину —
На сорок первом сплошал!
Или:
«Государь мой! Куда вы бежите?»
– «В канцелярию; что за вопрос?
Я не знаю вас!» – «Трите же, трите
Поскорей, Бога ради, ваш нос!»
Что же это мне слышится? Речь встретившихся на улице и разговорившихся крестьянок и петербургских прохожих, без единой поправки и перестановки перенесенная Некрасовым на бумагу, или это стихи, но только ни на чьи другие не похожие? Отвечал я себе тогда другими словами, но смысл их был такой: это разговор, ставший поэзией, и это поэзия, ставшая разговорной.
«…за Некрасовым бессмертие», – с удовлетворением прочел я впоследствии у Достоевского в его заготовках к «Дневнику писателя» за 1877 год.
А потом – Фет.
Только тот имеет право на звание поэта, кто как бы подслушал наши тайные мысли, чьи чувства – это и наши чувства, кто говорит и от своего, и от нашего имени, но только так говорит, как мы бы сказать не сумели.
Вновь и вновь – в разные годы моей перемышльской жизни – возвращаясь к поэзии Фета, я убеждался, что она выражает мои настроения.
Тихо все, покойно, как и прежде;
Но рукой незримой снят покров
Темной грусти, Вере и надежде
Грудь раскрыла, может быть, любовь?
Что ж такое? Близкая утрата?
Или радость? – Нет, не объяснишь, —
Но оно так пламенно, так свято,
Что за жизнь Творца благодаришь.
Стоит только оглянуться —
…и мир вседневный
Многоцветен и чудесен.
У поэта глаза разбегаются, и сердце готово выпрыгнуть из груди при виде весеннего преображения мира, при виде «сияющего мороза», при виде утренней «мощи света», при виде робко набегающих сумеречных теней, при виде «тихой звездной ночи». «Именно так и я воспринимаю природу, – говорил я себе, – но только Фет наводит мой взгляд на то, чего я прежде не замечал и не различал».
Я дивился фетовскому искусству немногими словами так много «навеять на душу»:
Облаком волнистым
Пыль встает вдали;
Конный или пеший —
Не видать в пыли!
Вижу: кто-то скачет
На лихом коне.
Друг мой, друг далекий,
Вспомни обо мне!
Последние две строки звучат «томным звуком струны», долго не смолкающим, постепенно замирающим аккордом. А читатель, внутренним своим слухом вслушиваясь в этот аккорд, проникается настроением поэта. Поэт ничего ему не навязывает, не подсказывает, о ком идет речь – только ли о друге или о любимой женщине, да это и не важно: здесь все дело в пронизывающей каждую строчку тоске одиночества, в стремлении вдаль, которое пробуждает у лирического героя промелькнувший перед ним путник, в стремлении к чьей-то родственной душе.
Фет любит эти аккорды в конце стихотворения:
Белая равнина,
Полная луна,
Свет небес высоких,
И блестящий снег.
И саней далеких
Одинокий бег.
Долго еще мы провожаем мысленным взором эти сани и одновременно по воле своего воображения дорисовываем картину, лишь намеченную поэтом.
Не отходи от меня,
Друг мой, останься со мной!
Не отходи от меня:
Мне так отрадно с тобой…
Ближе друг к другу, чем мы, —
Ближе нельзя нам и быть;
Чище, живее, сильней
Мы не умеем любить.
До чего же это ненарядно, до чего же это просто сказано, как сказалось бы в жизни! И, кажется, полнее выразить чувство нельзя.
Или еще вот этот шепот любви:
Я тебе ничего не скажу,
Я тебя не встревожу ничуть,
И о том, что я молча твержу,
Не решусь ни за что намекнуть.
Целый день спят ночные цветы,
Но лишь солнце за рощу зайдет,
Раскрываются тихо листы,
И я слышу, как сердце цветет.
И в больную, усталую грудь
Веет влагой ночной… я дрожу,
Я тебя не встревожу ничуть,
Я тебе ничего не скажу.
А потом —. Кольцов, без которого я с тех пор не могу себе представить русскую поэзию. Его то жизнерадостные, то заунывные, особенные, «кольцовские», ритмы вошли в меня атласным шелестом ржи, звоном оттачиваемых кос, запахом дымка, которым тянет от чумацкого ночлега, сытным запахом зажитка, спорым весельем труда («Раззудись, плечо! Размахнись, рука! Ты пахни в лицо, ветер с полудня!»), бессильной тоской о прошлом («Соловьем залетным юность пролетела, волной в непогоду радость прошумела»; «Догоню, ворочу мою молодость!.. Но, увы, нет дорог к невозвратному! Никогда не взойдет солнце с запада!»); кручиной разлуки («На заре туманной юности всей душой любил я милую…»), кручиной недоли («Разойдусь с бедою, с горем повстречаюсь»).