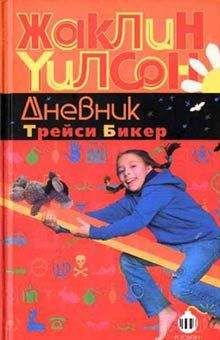Андрей Амальрик - Записки диссидента
— Ну что, успокоился?! — спросил он, влезая следом за мной.
— Успокоился, — сказал я, в сущности я хотел оказать только символическое сопротивление. Около машины появилась Гюзель и с плачем протянула мне теплые носки — почему именно о носках вспомнила она в эту минуту? Мы поцеловались, не зная, когда сможем увидеться, и Сидоров велел шоферу ехать.
Гебисты приехали на четырех машинах, у правления совхоза пересели в фургон инженера, а затем выслали вперед лжеагитатора: боялись, что, увидев идущую по деревне толпу, успею скрыться или снова сожгу что-нибудь. Можно сказать, что их план удался.
Рядом с шофером сидел мой следователь, Иван Андреевич Киринкин, а сзади обсели меня Сидоров и молодой гебист, он начал в середине пути клевать носом, и я показал Сидорову глазами: подводит молодежь. На мягкий упрек Сидорова тот вздохнул: «Ничего не могу поделать, режим, привык спать в это время», — у него был вид спортсмена, следящего за собой. Я молчал всю дорогу, хотя Киринкин пытался несколько раз заговорить. Удачная операции настроила Сидорова лирически, и пока мы ехали по проселочным дорогам, он несколько раз повторял: «Эх, выпить бы деревенского молочка!» Не он, однако, был здесь главный — и выпить молочка ему не удалось, по сигналу из второй машины мы остановились около захудалой столовой: гебистам пора было обедать, режим. Пока мы стояли, мимо меня раза два прошел человек, лицо которого мне было знакомо по прежним судам, походил он, с одной стороны, на усеянную бородавками жабу, а с другой — на будущего государственного секретаря США Киссинджера. Он руководил всей операцией, но, как великий стратег, сам не принял участия в бою.
На улице Вахтангова охранник-спортсмен, достав из багажника мое пальто, поспешил вверх по лестнице, видно было, что он человек с чувством достоинства и тащить за арестованным пальто кажется ему унизительным, он даже окликал меня несколько раз, я же, понимая его тонкие чувства, наоборот, ускорял шаги — так что он догнал меня только у дверей квартиры. Мы опоздали: назначенные «понятые» ушли. Пригласили двух молодых людей действительно с улицы, очень робевших и ни во что не вмешивавшихся. Только один, когда переворачивали матрас, восхищенно сказал: «Хороший матрасик!»
— У Андрея Алексеевича все хорошее, все заграничное, — ехидным голосом подхватил Сидоров.
— Разве же заграничное хорошее, хорошее это наше, советское, — ответил я, и Сидоров умолк.
До прихода понятых обыска начинать не имели права, я настоял, чтобы все дожидались в коммунальной кухне. На нашей полке лежал пакет, но я понадеялся, что обыск в кухне делать не будут. Оказалось, что шести человек на меня одного мало, появился седьмой, и, извинившись за опоздание, протянул мне руку, приняв меня по уверенному виду за одного из следователей.
— Вы ошиблись, — сказал я со смехом и не подавая руки, и он испуганно отскочил. Оказался он человеком очень мнительным и долго не хотел называть свою фамилию.
— А звание у вас какое?
— Это не имеет значения.
— Имеет огромное, — сказал я. — Раз вы служите, для вас смысл жизни в получении очередного звания.
Обыск был недолгий, хотя и доставил мне большое огорчение: как раз в день отъезда на дачу я ждал курьера от Карела, курьер не пришел, но появились шофер, несколько знакомых, и я не мог при них перепрятывать рукописи, оставив все до скорого возвращения в Москву — и вот возвращение состоялось.
Особенно мне было неловко, что конфисковали рукопись Владимира Гусарова «Мой папа убил Михоэлса». Отец его был первым секретарем ЦК КП(б) Беллорусии в то время, когда в Минске по приказу Сталина был убит Михоэлс, но сам Гусаров пишет, что это было дело рук Цанавы, министра госбезопасности Белоруссии и племянника Берии. Книга эта — описание детства в семье партработника, артистической карьеры, ареста и тюремной психбольниц в сталинские годы — оставила впечатление горькой, откровенной и талантливой. Зная, что ее автор чудак и разгильдяй, я очень боялся, что у него нет другой копии и книга пропадет, причем по моей вине. С этим неприятным чувством я прожил семь лет и только недавно узнал, что одна писательница вывезла рукопись в Израиль.
Я решил не уходить из дому до возвращения Гюзель, пусть меня опять волокут силком. Однако к концу обыска ее привезли — и мы обнялись на прощанье, чтобы увидеть друг друга через восемь месяцев. Когда меня вели по корридору, неожиданно выскочила из кухни соседка со словами: «Вам пакет!» Гебисты бросились на пакет из США с жаром, раскрыли — и там оказался Новый Завет по-русски.
— Оставьте его, — поколебавшись минуту, сказал Сидоров. Думаю, он исходил из здравой мысли, что моя почта просматривается, и раз книга пропущена — значит, ничего опасного нет, но мог бы изъять ее и просто из вредности.
Постановление об аресте было датировано сначала 15 мая, что подтверждало слухи о начале арестов, затем переправлено на 19, затем на 20 мая — может быть, ждали отъезда наших друзей с дачи, чтобы и у них сделать обыск. В протоколе обыска в Акулове «было предложено указать местонахождение отыскиваемого и добровольно выдать не подлежащие хранению предметы — оружие и прочее» — старое охотничье ружье затем было передано милиции и никакой роли не сыграло; в Москве — «добровольно выдать литературу и документы антисоветского содержания». В числе таких документов была изъята фотокопия статьи из «Правды» о Кареле. Хотели также изъять машинописную главу из «Истории тайной дипломатии» Маркса: Маркс тоже мною такого понаписал, что можно и по 70-й привлекать.
Повезли меня не в Лефортово, а в Бутырки — тюрьма рангом пониже, как ст. 1901 пониже ст. 70, так что мой план как будто реализовался.
Напряжение, связанное с арестом и обысками, отошло, я даже повеселел, Сидоров и Киринкин моему веселому настроению обрадовались.
— Андрей Алексеевич человек умный, — говорил Сидоров, намекая, что надо колоться, — он долго сидеть не будет, годик — и хорош. — Мой ум не давал ему покоя. — Вот вы человек умный, а жена ваша… — Я думал, он скажет «глупая», но он сказал: — …простая, начнет сейчас по иностранцам бегать и сама себе наделает неприятностей.
Оба не знали, где въезд в Бутырскую тюрьму, и мы долго беспомощно тыкались в разные ворота, пока пожилой старшина не сказал, как когда-то нам с Генри Каммом: «Что, ребята, заблудились?»
— Капиталистическое окружение — оттого и приходится людей сажать, Андрей Алексеевич, — сказал Сидоров во дворе тюрьмы.
— Ну, в тюрьме всегда люди будут, — пожал я плечами.
— Но не такие, но не такие! — патетически возразил он, давая понять, что я призван для более великих дел, чем прозябание в тюрьме.