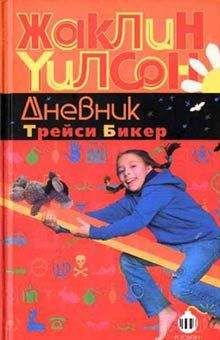Андрей Амальрик - Записки диссидента
В конце апреля мы съездили на неделю в Ленинград, Таллинн и Ригу, до моего ареста я хотел показать Гюзель эти красивые города. Ленинград всегда производил на меня странное впечатление: декорации императорской столицы не вязались с бытом провинциального советского города, я думаю, сами ленинградцы трагически ощущали этот разрыв. Мрачность и несвобода, вообще присущие советскому обществу, в Ленинграде ощущались особенно давяще. Весной 1968 года в Москве один ленинградец сказал мне: «Такое чувство, будто я попал в свободный город». ВСХСОН никогда не смог бы возникнуть в Москве — это типичное детище трагической полустолицы. Когда я проходил по Невскому проспекту, меня не оставляло чувство, что все это — мираж, что стоит свернуть с проспекта, как город тут же кончится, растворится в тумане, в испарении болот, и будут только мхи, лишайники и бесконечные безлесные водянистые засасывающие пространства, — петербургская культура — это какая-то новая Атлантида, но не рухнувшая в море во внезапной катастрофе, а постепенно засасываемая болотистой трясиной, из которой еще торчат верхушки домов, высовываются руки и подчас раздается сдавленный крик — Ахматовой.
Совсем иное впечатление произвел Таллин, «старый город» которого кажется мне одним из самых красивых в мире — портит его только безобразная православная церковь, построенная в начале века, знак неумолимой русификации. Таллинн — действительно столица, очень маленькая столица очень маленькой страны, но город был явно тем, за кого он себя выдавал. В центре мы увидели кошку, которая спокойно на краю мостовой ела рыбу — вещь невозможная в России, где в два счета эту кошку кто-нибудь пихнул бы ногой.
Эстонцы держались сдержанно и вежливо, за все время мы встретили на улице только двух пьяных, увы, русских: беспрерывно перемежая речь матом, они удостоверялись во взаимном уважении.
Наш гид оказался большим поклонником Солженицына, не скрывал этого — и вместе с тем работал в цензуре. Никакого впечатления, что он специально подослан нам, у нас не было. Но из Ленинграда в Таллинн в нашем купе ехало двое молодых людей, с которыми я поостерегся бы говорить о Солженицыне. Зато у нас был разговор о Юдениче, белом генерале, который неудачно наступал в 1919 году из Таллинна на Петроград, поэтому один из молодых людей назвал его неудачником. Я возразил, что едва ли верно называть неудачником человека, который как-никак стал генералом, и оба охотно согласились со мной — видно, вопрос о чинах занимал их.
В середине мая мы переехали в Акулово, шофера почти на час задержала милиция — он сказал, что проверяли путевые документы и взятку вымогали, но стал относиться ко мне со странным почтением. На следующий день я заметил прогуливающихся по деревне «дачников», постоянно приглаживающих волосы столь знакомым профессиональным жестом; я все еще надеялся, что это просто проверка, здесь ли я. Считая арест неизбежным, я странным образом чувствовал себя на даче в большей безопасности, чем в Москве; это чувство рационализировалось поговоркой «с глаз долой — из сердца вон», то есть, коль скоро я не мельтешу пред глазами КГБ в Москве, он махнет на меня рукой.
Неделю у нас прожили двое наших друзей, и 20 мая я повез их на станцию — потом я часто вспоминал эту поездку, медленно бегущую лошадь, скрипящие ступицы телеги, поля и врастающие в землю домики из красного кирпича.
Часть II. ОТКУДА НЕТ ВОЗВРАТА, 1970–1973
Глава 10. АРЕСТ
Утром 21 мая я работал в саду и увидел, как фургон совхозного инженера стал за домом нашего соседа, одинокого старика. Я подумал: зачем это инженер к нему приехал? — и тут же забыл об этом. Но только мы сели пить кофе, как Гюзель из окна увидела, что к нам идут двое: старик и второй, с лицом гебиста. Старик мялся, а его бойкий спутник с самыми дружелюбными ухватками начал спрашивать, где мы будем «голосовать» — здесь или в городе.
Приближались «выборы» — мы никогда в этой комедии не участвовали, но, чтобы не вступать в ненужные объяснения, я ответил, что «голосовать» будем в Москве. Он не уходил, однако, и, упрямо топчась в сенях, переспрашивал то же самое.
— Так вы агитатор? — спросил я, подталкивая его к двери.
— Да, с одной стороны агитатор, но вообще-то не агитатор.
— Так кто вы такой? — и тут у меня прямо потемнело в глазах: масса темных костюмов внезапно рванулась с улицы на террасу, проталкивая и отпихивая друг друга, как в метро в часы пик.
— Мы к вам с обыском, Андрей Алексеевич, — обрадованно гаркнул здоровенного роста мужчина, с грубо отесанным, но не жестким лицом. — По постановлению Свердловской прокуратуры! — И на мой удивленный взгляд добавил: — Обнаружены и у нас в Свердловске ваши сочинения.
Мне не хотелось показывать, что я напуган или растерян, сразу поддаться им — и я насмешливо сказал напиравшему на меня следователю: «То-то видно, что вы из провинции, в Москве „органы“ стали поотесанней». Я захотел допить кофе — и мне дали его допить, напряженно смотря в рот.
— Вы можете нас презирать, но предложите нам сесть! — вскричал один.
— Хозяева здесь вы, — сказал я, — можете садиться, где хотите.
От меня потребовали, чтобы я ехал в Москву, а здесь проведут обыск в присутствии жены. Я сказал, что жена ни при чем, пусть делают обыск при мне.
Мы несколько минут пререкались, и свердловский следователь со словами: «Ну, тогда будет другой разговор», — достал из портфеля ордер на арест. Хотя я ждал ареста, сознание его бесповоротности подействовало тяжело, меня успокоило, однако, что ордер подписан следователем прокуратуры, а не КГБ, значит — ст. 1901 и три года.
— Ордер этот ко мне отношения не имеет, — сказал я, — здесь речь идет об Амальрике Андрее Алексеевиче 1939 года рождения, а я, правда, тоже Амальрик, имя и отчество сходятся, но год рождения другой — 1938-й.
— Это мы просто перепутали, это мы поправим, — заволновался следователь, ему действительно пришлось съездить к прокурору, пока гебисты делали обыск; столько следили за мной, а года рождения узнать не могли.
Уезжать до обыска я во всех случаях отказался, и тогда они схватили кресло, в котором я сидел, и понесли меня наподобие китайского богдыхана — хотя в дверях и вывалили без всякого почтения в сени, в дверь кресло не пролезло. Двое-трое здоровых мужиков без всякого труда вытащили бы меня из дома, но их было слишком много, каждый хотел показать свое усердие и бросался меня тащить, мешая другому, так что образовался клубок тел, в центре которого я скорее беспомощно барахтался, и этот клубок, застревая поочередно в дверях сеней и террасы, выкатился, наконец, на улицу, где стояло уже несколько «Волг» — в одну из них стали меня запихивать, особенно старался, тяжело дыша и матерно ругаясь, мой старый приятель капитан Сидоров.