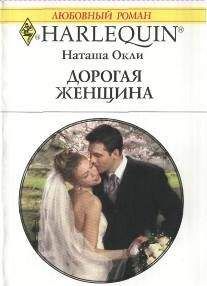Петр Вайль - Стихи про меня
Какая же гигантская разница у нас в масштабах, характере, степени насильственности перемен. Общее разве что — стремительность происшедшего. Но какая мелочь твои длившиеся неделю переживания от необходимости впервые отвечать самому за себя — на фоне того чувства неизбывного горя, которое Георгий Иванов пронес до конца.
Самые незаполошные из них — а Иванов был из самых-самых — понимали случившееся как полный крах, как позорное поражение. "Не изнемог в бою Орел Двуглавый, / А жутко, унизительно издох". То же у Иванова в прозе: "И вот нет ни девятнадцатого века, ни духа его, ни веры в прогресс, ни трезвых оценок, ни "логики истории". История вдребезги, ударом красноармейского сапога разбила все полки и полочки русской культуры, где все так аккуратно, так справедливо было расставлено".
Не стоит придираться к "справедливости" расстановки: на фоне того, что пришло в России на смену, любая иерархия казалась благом. И тем горше, тем непростительнее утрата. У Мандельштама в "Феодосии" — образ "больного орла, жалкого, слепого, с перебитыми лапами, — орла Добровольческой армии". Адамович: "Над нами трехцветным позором полощется нищенский флаг".
Но никого, пожалуй, так навязчиво не тревожила именно внезапность события, как Георгия Иванова. Есть знаменитое розановское "Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три...", однако Розанов умер в 19-м, не успев как следует удивиться. Иванов изумлялся всю жизнь.
Это потрясение проходит сквозь все его стихи с 30-х по 50-е. "Так в страшный час над Черным морем / Россия рухнула во тьму"; "Ни надежды. Ни расчета. / Просто - ничего"; "Видим вдруг — неизбежность пришла"; "И всего верней — проститься, / Дорогие господа, / С этим миром навсегда"; "И нет ни России, ни мира, / И нет ни любви, ни обид".
Молниеносность исчезновения страны прослеживается по множеству источников. Через много лет Берберова подчеркивает иррациональность происшедшего: "Мне и сейчас еще кажется какой-то фантасмагорией та стремительность, с которой развалилась Россия..." В бесповоротность перемен не верилось. Как пишет тот же Иванов об осени 1918 года: "На Каменноостровском строились футуристические арки к первой (последней, как все были уверены) годовщине "пролетарской революции". Тэффи, чьи мемуары ценны живописностью, именно достоверными эскизами эпохи хаоса, вспоминает Киев 19-го, рисуя непостижимую быстроту смены декораций: "Оживленные улицы, народ, снующий из магазина в магазин... И вдруг чудная, невиданная картина, точно сон о забытой жизни, — такая невероятная, радостная и даже страшная: в дверях кондитерской стоял офицер с погонами на плечах и ел пирожное! Офи-цер, с по-го-на-ми на плечах! Пи-рож-ное!" Иванов ей вторит: "В 1919 году вообще мало чему удивлялись. Разве уж чему-нибудь в самом деле колоссальному. Окороку ветчины, например". Ходасевич в том же 19-м записывает: "Красивые женщины тоже куда-то исчезли".
Насколько убедительнее и доходчивее эти бытовые подробности, чем анализ политических событий: на глазах, под руками расползлась сама ткань жизни. В такое не верится никогда: ну, другая власть, но ведь ненадолго — во-первых, и не может быть, чтобы такая уж совсем другая — во-вторых. Ольга Давыдовна Каменева у Ходасевича, Луначарский у десятка мемуаристов — пусть неприятные, даже противные, но читавшие те же книжки, почти свои.
Изощренный взгляд Иванова фиксирует глубинный смысл повальной распродажи из приличных семей: "Люди еще сидели в своих обреченных на гибель домах, еще таились, надеялись, выжидали, сторонились событий, вещи уже навязчиво предлагали себя, смешиваясь и братаясь с революционным плебсом. Вещи оказались демократичнее людей".
Уехавшие, еще за несколько дней до отъезда, могли не подозревать о своем предстоящем шаге. Путается простодушная правда и сознательная ложь. Леонид Сабанеев вспоминает, как ответил композитор Гречанинов на вопрос, почему он не уезжает. "Он на меня посмотрел недовольно и сказал — я хорошо помню эти слова: "Россия — моя мать. Она теперь тяжело больна. Как могу я оставить в этот момент свою мать! Я никогда не оставлю ее". Через неделю я узнал, что он выехал за границу". Знакомая уговаривает Тэффи пойти в парикмахерскую: "Ну да, все бегут. Так ведь все равно не побежите же вы непричесанная, без ондюлясьона?!" И Тэффи, совершенно не собиравшаяся покидать Россию, неожиданно обнаруживает себя на пароходе в Константинополь. Можно предположить, причесанной. Быт, ткань, пирожные, прически, то есть сама жизнь — переместились вместе с носителями жизни.
В год своей смерти, в старческом доме на Лазурном берегу, Георгий Иванов дословно повторяет строку: "Ну абсолютно ничего". Примечателен контекст повтора. Стихотворение 58-го года начинается как стишок для детского утренника: "Вот елочка, а вот и белочка / Из-за сугроба вылезает. / Глядит, немного оробелочка, / И ничего не понимает — / Ну абсолютно ничего", а заканчивается кромешной безнадежностью. Белочка выбирается из-за сугроба к прочей лесной живности на веселый праздник, но вдруг — без всяких объяснений — уходит в черноту: "Откуда нет пути назад, / Откуда нет возврата".
Тот самый всхлип, которым — по Элиоту — заканчивается мир. Всхлип Георгия Иванова, знавшего, что умирает, не хотевшего с этим соглашаться. Не про белочку же он, в самом деле: "И ничего не понимает — / Ну абсолютно ничего".
Одними и теми же словами Иванов поразился окончательности краха — своего мира и своей жизни.
ПОРЯДОК СЛОВ
Борис Пастернак 1890—1960
Магдалина
ii
У людей пред праздником уборка.
В стороне от этой толчеи
Обмываю миром из ведерка
Я стопы пречистые Твои.
Шарю и не нахожу сандалий.
Ничего не вижу из-за слез.
На глаза мне пеленой упали
Пряди распустившихся волос.
Ноги я Твои в подол уперла,
Их слезами облила, Исус,
Ниткой бус их обмотала с горла,
В волосы зарыла, как в бурнус.
Будущее вижу так подробно,
Словно Ты его остановил.
Я сейчас предсказывать способна
Вещим ясновиденьем сивилл.
Завтра упадет завеса в храме,
Мы в кружок собьемся в стороне,
И земля качнется под ногами,
Может быть, из жалости ко мне.
Перестроятся ряды конвоя,
И начнется всадников разъезд.
Словно в бурю смерч, над головою
Будет к небу рваться этот крест.
Брошусь на землю у ног Распятья,
Обомру и закушу уста.
Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста.
Для кого на свете столько шири,
Столько муки и такая мощь?
Есть ли столько душ и жизней в мире?
Столько поселений, рек и рощ?
Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до Воскресенья дорасту.
1949