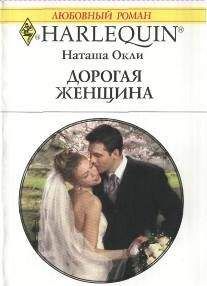Петр Вайль - Стихи про меня
Введенский декларировал идею жертвенности в поэзии: чем хуже — тем лучше. "Бывает, что приходят на ум две рифмы, хорошая и плохая, и я выбираю плохую: именно она будет правильной". Он вообще отрицал традиционную эстетику, разделение на "красиво — некрасиво". Идея "правильности" довлела, а правильным было то, что достигалось отрицанием, отречением, жертвой.
Теоретически — благородно и эффектно. На практике такой этически-эстетический аскетизм оказывается очень разным. На абстрактную картину смотришь с внутренней агрессивной претензией: а корову он нарисовать может? Ранний Миро с его каталонскими пейзажами убеждает в мастерстве рисования и живописи — тогда пусть разбрасывает свои разноцветные кляксы, как хочет: доверие заслужено. То же с Пикассо. Подход простой, но часто оправданный; взгляд, конечно, очень варварский, но верный.
Общепризнанно, что Введенского надо читать глазами — на слух он практически неприемлем: уж очень сложный, головной. Об этом и Заболоцкий: "На Вашем странном инструменте Вы издаете один вслед за другим удивительные звуки, но это не музыка". Жизнь же научила, что те стихи хороши, которые запоминаются. Как выразился Тристан Тцара: "Мысль рождается во рту". (Нормально, что те, кто так и творят, подобных афоризмов не создают, и — наоборот.) "Элегия" резко выделяется у Введенского тем, что ее хочется читать вслух, перечитывать и декламировать, насилуя родных и близких.
"Уважай бедность языка. Уважай нищие мысли", — провозглашает Введенский. Его декларативному минимализму не веришь: существует "Элегия".
Стихи — остальные стихи — Введенского действительно увлекательно разгадывать. Непонимание как мировоззренческая категория — их суть. "Горит бессмыслицы звезда, / она одна без дна", "чтобы было все понятно, / надо жить начать обратно", "Нам непонятное приятно, необъяснимое нам друг...".
Конечно, друг. А мы его друзья. Как же иначе, если вчерашнее событие в изложении нескольких знакомых предстает взаимно неузнаваемым? Расёмон — каждый день.
Сильное переживание, помню, испытал, прочитав показания секундантов Лермонтова и Мартынова. Через неделю после дуэли четверо вменяемых мужчин, четыре человека чести, вовсе не думая обманывать, рассказали совершенно разное о простейших обстоятельствах события, ведомые чем-то загадочным своим. Господи, не о схожем ли Лермонтов: "И ненавидим мы, и любим мы случайно"? Не о том ли Введенский: "Нам туго, пасмурно и тесно, / мы друга предаем бесчестно, / и Бог нам не владыка"?
Забывчивости нет. Случайных ошибок нет. Слух исправен. Глаз остер. Маразм за горами. Но — никто не понимает никого: не понимает убежденно, взволнованно, вдохновенно.
Непонимание — наше шестое чувство.
Рано или поздно мы смиряемся с этим — в себе, в близких, вообще в окружающей жизни: от политики до семьи. Однако не того мы ждем от искусства. В конце-то концов, зачем мы читаем книжки и разное там слушаем? Искусство обязано быть умнее, глубже, объемнее, точнее. Лермонтов и Введенский оттого и кручинятся — от собственного бессилия.
Введенского в той компании выдающихся талантов, которая кодируется в истории как ОБЭРИУ, считали гением. А в компании были Хармс, Олейников, Заболоцкий. Похоже, в гениальности своей Введенский не сомневался, с прошлым вовсе не соотносясь, уверенный, что совершил "критику разума, более основательную, чем та (кантовская), поглядывая в будущее: "В поэзии я как Иоанн Креститель, только предтеча". Он вплотную подошел к осознанию принципиальной невозможности понимания и думал, что показал это в поэтической практике. Так думают и его приверженцы: Введенский — культ. Но не он ли сам сказал: "Я убедился в ложности прежних связей, но не могу сказать, какие должны быть новые". Постижение этого, по-видимому, для человека невозможно, и тоже — принципиально.
Может быть, такой тупик и заставил Введенского развернуться назад, сделать полный поворот кругом — к "Элегии". К Лермонтову.
Заметное общее у них — ощущение окружающей пустоты и бесполезности, беспредметности мира: не за что ухватиться. У Введенского и буквально. Друскин описывает его образ жизни, его быт, если здесь применимо это слово: "простая железная кровать, две табуретки и кухонный стол", а "в последний период своей жизни... он писал даже не за столом, но просто сидя на стуле и подложив под бумагу книгу".
Концептуальная неприкрепленность. "Он сам раз сказал мне, что номер в гостинице предпочитает своей комнате. Номер в гостинице лишен индивидуальности, это просто временная жилая площадь — оттого Введенский и предпочитал ее своему дому..."
Современники отмечали, что на обэриутских вечерах Введенский выделялся среди своих эксцентричных товарищей стандартной обыденностью: черный костюм, белая рубашка с галстуком. Анонимная одежда — не запоминающаяся, не индивидуализированная, как его жилье. Снова — "бедность языка".
Что же произошло? Отчего в "Элегии" явлен другой — "богатый", даже "роскошный" — Введенский? Вероятно, можно говорить о пресловутом предвидении поэта, которое так часто встречается в истории словесности: потому это и трюизм, что правда.
Предощущение конца в прощальной "Элегии" явственно.
В реальной жизни было от чего тревожиться и скорбеть. Еще в конце 1931 года Введенского, Хармса и еще некоторых сотрудников детской редакции Ленгиза арестовали. В те сравнительно мирные времена они после тюрьмы и ссылки вернулись осенью следующего года. Но в 37-м окончательно взяли Олейникова, в 38-м Заболоцкого. К 40-му жанр элегии (и эпитафии) становился главным в жизни.
Не стоит демонизировать власть и ее спецслужбы. В них работали (и работают) такие же, как во всей стране, люди, с теми же представлениями о рабочей этике и отношением к производительности труда. Почему в государстве, где плохо с обувью, дорогами, телефонной связью, земледелием, туалетной бумагой и автомобилями, должно быть хорошо с госбезопасностью? Там трудятся так же, как везде: с той же ленью, нерадивостью, истеричностью, беспорядочностью, скрытым саботажем и показной штурмовщиной. Потому и ставит в тупик логика репрессий. В одних случаях причины арестов и казней прослеживаются: от мстительности верховного вождя до зависти коллег и корысти соседей. В других — беспросветная тьма не только архивов, но и мотивов.
Можно лишь оперировать фактами: например, твердо сказать, что ни одна литературная группа не была уничтожена так полно и безжалостно, как непонятные — и, казалось бы, оттого и безвредные — обэриуты. Возможно, наоборот: именно непонятность раздражала, будила комплекс неполноценности. Но нет — "кулацких" поэтов, которые уж куда доступнее, тоже убивали. Не получается схемы — только хаотический навал ужаса.