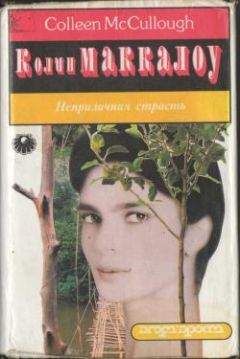Корней Чуковский - Современники: Портреты и этюды (с иллюстрациями)
Горький на это сказал:
— Вчера я иду домой. Вижу, в окне свет. Глянул, сидит человек и ремингтон починяет. Очень углублен в работу, лицо освещено. Подошел какой-то бородатый. Тоже стал глядеть и вдруг: «Сволочи! чего придумали? Мало им писать, как все люди, так и тут машину присобачили. Сволочи!»
Такая «посторонняя» беседа длилась довольно долго. И лишь после того, как благодаря ей создалась атмосфера душевной близости, душевного уюта, Горький заговорил о рассказах, написанных этой молодежью для сборника, то есть о том, ради чего вся она собралась у него. Сборник должен был выйти под редакцией Алексея Максимовича.
— Позвольте поделиться моим мнением о сборнике. Не в целях дидактических, а просто так, потому что я никогда никого не желал поучать. Начну с комплиментов. Это очень интересный сборник. Впервые такой случай в истории литературы: писатели, еще никогда не печатавшиеся, дают литературно значительный сборник. Любопытная книга, всячески любопытная. Мне, как бытовику, очень дорог ее общий тон. Очень сильно и правдиво. Есть какая-то история в этом, почти физически ощутимая, живая и трепетная. Хорошая книга.
Тут Горький заговорил о том, что в книге, к сожалению, нет героя, нет человека.
— Человек предан в жертву факту. Но мне кажется, не допущена ли тут — в умалении человека — некоторая ошибка? Кожные раздражения не приняты ли за нечто другое? Ведь и при коллективизме роль личности оказалась огромной. Например, Ленин. А у вас герой затискан. В каждом данном рассказе недостаток внимания к человеку, а в жизни человек, все-таки свою человечью роль выполняет…
Дальнейшие слова Алексея Максимовича я, к сожалению, не мог записать, так как, заметив у меня в руке карандаш и узнав, что я записываю его слова для потомства, он подошел ко мне и сердито сказал:
— Я и сам немного умею писать. Что будет нужно, я и сам кое-как напишу.
Я готов был провалиться сквозь землю и только лет десять спустя узнал, что при таких обстоятельствах Алексей Максимович обрушивался не на меня одного.
В его семье долгое время проживал живописец Иван Николаевич Ракитский, скромный, чистосердечный, молчаливый, услужливый. Этот Ракитский (или, как звали его в семье, Соловей) вел очень подробный дневник, где записывал высказывания Горького о разных книгах, событиях, людях, вещах, так что у него собралось несколько драгоценных тетрадей.
Зайдя как-то к Ракитскому в комнату и увидя у него эти тетради, Алексей Максимович с негодованием потребовал, чтобы Ракитский немедленно бросил их в печку, и тот, испытывая мучительную душевную боль, беспрекословно подчинился требованию Алексея Максимовича; Ему было ясно, что здесь не каприз, а принципиальное нежелание фигурировать в роли оракула, чьи изречения записываются в назидание грядущим векам.
Все это поведал мне сам Соловей, и семья Горького подтвердила его грустный рассказ.
VЯ познакомился с Горьким за два года до возникновения «Всемирной литературы» — 21 сентября шестнадцатого года. Мы встретились на Финляндском вокзале для совместной поездки к Репину. В вагоне он был пасмурен, и его черный костюм казался трауром. Чувствовалось, что война, которая была тогда в полном разгаре, томит его, как застарелая боль. В то время он редактировал «Летопись» — единственный русский легальный журнал, пытавшийся протестовать против войны.
До обеда мы сидели у Репина в мастерской — Репин взял небольшой «крупнозернистый» холст и стал писать Горького в профиль. Горький ни минуты не сидел спокойно, вертелся и все время рассказывал разные истории — то смешные, то трогательные.
Заговорили почему-то о любви, и он рассказал, между прочим, о грозном нижегородском сатрапе генерал-губернаторе Баранове.
— Все боялись его… вор и злодей… И вот, оказывается, по утрам на рассвете в переулочке у него свидание с красивой женой пивовара… Сам высокий, она низенькая… так вдоль забора и гуляют… Она смотрит на него любовно снизу вверх, а он сверху вниз… а я из-за забора гляжу и любуюсь… А то еще смотритель тюрьмы… мордобоец… Знаменитый в Нижнем душегуб… поднимет, бывало, воротничок… и к швейке. Швейка со мной по соседству, за перегородкой, в гнуснейшем доме жила. Он к ней и тихо, спокойно Лермонтова ей декламирует:
Печальный демон, дух изгнанья…
Гости у Репина были случайные: какие-то молчаливые прапорщики, адвокат из Казани, костлявая певица из Киева. Зашел разговор о войне. Оказалось, все они жаждут «войны до победы». Горький слушал их сумрачно, а когда они наконец замолчали, стал медленно и монотонно говорить об ужасах затеянной империалистами бойни:
— Сколько полезнейших мозгов разбрызгивается зря по земле каждый день… французских, немецких, турецких… да и наших, тоже не дурацких…
Пошли обедать. Среди гостей был худосочный поручик, только что вернувшийся с фронта. Он слушал Горького спокойно и учтиво. И вдруг его словно прорвало: он ни с того ни с сего, не глядя на Горького, судорожно и напряженно заговорил о том, что наши французские союзники доблестны и наши английские союзники доблестны… И Россия, давшая миру Петра Великого, Пушкина, Репина, должна быть грудью защищена и т. д.
— Этот человек, — сказал Горький, — кажется, вообразил, будто я командую немецкой армией…
Поручик почему-то вспылил неожиданно для всех и, кажется, для самого себя, вскочил из-за стола, подбежал к Алексею Максимовичу и, зажмурив глаза, замахнулся, как бы собираясь ударить. Его удержали. Он стал фальцетом выкрикивать, что Горький пораженец, предатель, агент кайзера Вильгельма II. Репин был в отчаянии, но Горький только усмехнулся угрюмо:
— Ничего, Илья Ефимов, я привык!
Врагов у него всегда было вдоволь, и это внушало ему спокойную гордость. В тот же вечер в своей квартире на Кронверкском он дал мне широкий конверт, на котором его рукой было написано: «Читатель отвечает». В конверте были письма, сплошь ругательные. К ним было приложение — петля из тончайшей веревки. Такая тогда установилась среди черносотенцев мода — посылать «пораженцу» Максиму Горькому петлю, чтобы он мог удавиться. Некоторые петли были щедро намылены. Получив подобное письмо, Горький надевал свои простенькие в серебряной оправе очки и читал его тщательно, от слова до слова (получаемые письма он никогда не просматривал бегло, а вчитывался в каждую букву, подчеркивая красно-синим карандашом наиболее выразительные строки).
У «Летописи» были в ту пору частые препирательства с военной цензурой. В один из тех же сентябрьских дней Алексей Максимович пошел объясняться к начальнику цензурного ведомства. Начальник не знал, что перед ним Горький, и с большим раздражением, даже не пригласив его сесть, выслушал его резкие отзывы о цензоре «Летописи».