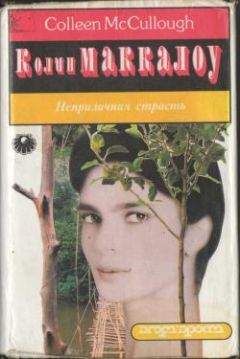Корней Чуковский - Современники: Портреты и этюды (с иллюстрациями)
Чествование вышло задушевное. Александр Блок записал в мою «Чукоккалу»:
«Сегодняшний юбилейный день Алексея Максимовича светел и очень насыщен — не пустой день, а музыкальный».
Но к концу этого «музыкального» дня Горький вдруг вспылил и разгневался и стал вести себя совсем не юбилейно.
Дело в том, что профессор Батюшков, милый и почтенный человек, имел одну простительную слабость: любил произносить юбилейные речи писателям, причем каждому юбиляру всегда говорил главным образом о гуманности его произведений, о его нежной любви к падшим и униженным людям.
С такой речью он обращался когда-то и к Мамину-Сибиряку и к Короленко и теперь обратился к Горькому.
Алексей Максимович слушал его терпеливо, но когда оратор, ссылаясь на горьковскую пьесу «Старик», стал восхвалять героя этой пьесы, утверждая, будто Горький озарил своего старика каким-то «ласковым и кротким сиянием», Горький сердито встал, перегнулся через стол и сказал, сильно ударяя на «о»:
— Позвольте, позвольте… Прошу прощения… Это не так… Да, не так. Униженных и падших я терпеть не могу. А этого старика не-на-ви-жу.
Через минуту Горький смягчил свою резкость улыбкой, но Батюшков сконфуженно потупил глаза и еле досказал свою речь.
Никогда в жизни, ни раньше, ни после, я не видел, чтобы юбиляр полемизировал с теми, кто пришел славословить его, но никакие юбилеи не могли помешать Алексею Максимовичу громко осудить ту идею, которая была враждебна ему.
Домой я возвращался с группой типографских рабочих. Рабочие шли и смеялись.
— Здорово он отбрил этого старичка! — говорили они. — Так и сказал ему прямо в лицо: «Я тебя, милый друг, ненавижу!»
В их представлении Батюшков и был тот старик, о котором Горький говорил с такой ненавистью.
Ненависть Горького была вызвана либеральным гуманизмом профессора. Горький в то время не раз говорил, что эра дряблого гуманизма христианской Европы закончилась, что этот гуманизм разоблачен и дискредитирован всеми событиями нашей эпохи.
На ближайшем заседании Горький рассказал мне тихим шепотом, что по случаю его 50-летия один заключенный прислал ему из тюрьмы такое прошение:
«Дорогой писатель!
Не будет ли какой амнистии по случаю вашего тезоименитства? Я сижу в тюрьме за убийство жены, убил ее на пятый день после свадьбы за то, что она (тут следовали очень откровенные подробности)… Так нельзя ли мне устроить амнистию?»
Таких писем получал он много. В 1920 году он получил телеграмму от неизвестного ему человека:
«Максиму Горькому.
Сейчас у меня украли на станции Киляево две пары брюк и 16 000 рублей денег».
Через неделю после юбилея Александр Блок читал на квартире у А. Н. Тихонова (Сереброва) доклад о роли гуманизма в современной культуре. Доклад был по поводу Гейне, и в нем говорилось, что теперь «колокол антигуманизма громче и звучнее, чем прежде». Горький очень взволнованно слушал, а потом, обращаясь к Блоку, сказал:
— Я человек бытовой, и, конечно, мы с вами люди разные, и вы удивитесь тому, что я скажу, но мне тоже кажется, что гуманизм, именно гуманизм в христианском смысле, должен полететь ко всем чертям…
На заседаниях «Всемирной литературы» с теми, кто высказывал враждебные Горькому взгляды, он старался быть бесстрастным и терпимым. Споря с ними, он постоянно уснащал свою речь всевозможными учтивыми фразами: «Я позволю себе заметить» «Я позволю себе указать». Но эта учтивость давалась ему нелегко. Если кто-нибудь высказывал суждения, представляющиеся ему вопиюще неверными, он с трудом обуздывал свой гнев и в течение всей речи противника нетерпеливо стучал своими тяжелыми пальцами по столу — то быстрее, то медленнее, будто исполнял на рояле дьявольски трудный пассаж, и лишь изредка отрывался от этой работы, чтобы сердито закрутить свой рыжий ус. А если неприятная речь тянулась дольше, чем он ожидал, он схватывал лист бумаги и с яростной аккуратностью, быстро-быстро разрывал его на узкие полосы и делал из каждой полосы по кораблику. Раз! Раз! Раз! Раз! Восемь корабликов — целый флот.
Если же оратор не замолчит и тогда, рассвирепевшие пальцы хватают из пепельницы груду окурков и сокрушительно вдавливают каждый окурок в корабль, словно расправляясь с ненавистным оратором.
Я сохранил один из таких корабликов, вклеив его в свою «Чукоккалу». В самом начале двадцатых годов в Петрограде возникла группа начинающих юных писателей — «Серапионовы братья». Горький дружески сблизился с ними и, как мог, помогал им работать. Задача у него была большая: сплотить этих будущих писателей на общей работе для новых читательских масс. Вскоре у него возникла мысль напечатать сборник их стихов и рассказов. Сборник должен был называться «1921 год».
Я часто видел их вместе — этих юных литераторов и Горького. Разговоры у них шли непринужденные, товарищеские, причем Горький с большой осторожностью применял к ним свою «педагогику». Один из таких разговоров, происходивший на Кронверкском, я записал слово в слово и приведу его здесь, так как он кажется мне очень характерным для тональности тогдашних отношений Алексея Максимовича к этой писательской группе.
— Какого я слышал вчера куплетиста, — сказал Горький, — талант. Даже потеет талантом. Пел, между прочим, такие стишки:
Анархист в сенях стащил
Полушалок теткин.
Ах, тому ль его учил
Господин Кропоткин?
Федин, вернувшийся тогда из Москвы, рассказал, что в Москве его поразило, как мужик влез в трамвай с оглоблей. Все кричали, возмущались, а он — никакого внимания.
— И не бил никого? — спросил Горький.
— Нет. Приехал куда надо, прошел через вагон и вышел с передней площадки.
— Хозяин! — сказал Горький.
Заговорили о крестьянах. Федин очень живо изобразил замученную городскую девицу, которая, изголодавшись в городе, приволокла в деревню мануфактуру и деньги, чтобы обменять на съестное. «Деньги? — сказала ей баба в первой же избе. — На что мне твои деньги? Поди-ка сюда. Сунь руку. Сунь, не бойся! Глубже, до дна. Вся кадка у меня ими набита, и каждый день муж играет в очко и выигрывает тысяч сто — сто пятьдесят».
Девица была в отчаянии, но улыбнулась. Баба заметила у нее золотой зуб сбоку. «Что это у тебя такое?» — «Зуб». — «Золотой?» — «Золотой». — «Что ж ты его сбоку спрятала? Выставила бы спереди. Нравится мне этот зуб, я бы тебе за него картошки сколько хочешь дала…» Девица взяла вилку и выковыряла зуб. Баба сказала: «Ступай вниз. Набери картошки сколько хочешь. Сколько поднимешь». Та навалила много, но поднять не могла. Баба равнодушно: «Ну, отсыпь».