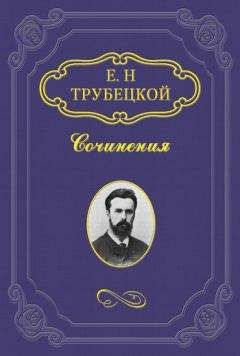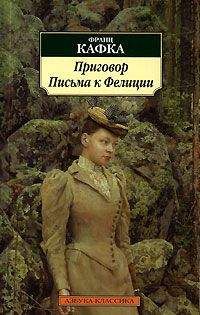Вальтер Беньямин - Франц Кафка
Взглянем еще раз на деревню, что примостилась у подножия замковой горы
* * *«К. подошел так близко, что ему пришлось откинуть голову, чтобы видеть священника»
Бывают во сне определенные зоны, с которых, собственно, и начинается кошмар. У границы, на пороге этой зоны спящий судорожно напрягает все свои иннервации, чтобы избежать кошмара. Однако дадут ли эти иннервации высвобождение или, напротив, сделают кошмар еще более тягостным – это решается только после напряженной внутренней борьбы. В последнем случае они станут отражением не высвобождения, но раболепной покорности, угнетения. У Кафки нет ни единого жеста, который не отражал бы этой двойственности в момент всякого решения.
Когда Макс Брод говорит: «Непроницаем был мир всех важных для него вещей»
Но у Кафки всегда так; у человеческого жеста он отнимает унаследованные «от века» смысловые подпорки, таким образом обретая в нем предмет для размышлений, которым нет конца
Его жесты являют собой попытку путем подражания беспредметно отразить и уяснить для себя непонятность всемирного хода вещей – или саму беспредметность этого хода. Тут образцом для подражания Кафке служили животные. Многие его истории о животных довольно долго можно читать, вообще не догадываясь о том, что речь тут вовсе не о людях. Возможно, бытие в качестве животного означало для него только одно – испытывая своеобразный стыд за человеческое бытие, иметь возможность от него отказаться; так благородный господин, оказавшись в дешевом кабаке, стесняется вытереть поданный ему нечистый стакан. «Я подражал, – говорит орангутанг в „Отчете для академии“, – только потому, что искал выход, единственно по этой причине». В этой же фразе – ключ к пониманию статуса актеров в Открытом театре Оклахомы. Их «уже сейчас, сразу же» можно поздравить, потому что им дозволено играть самих себя, они освобождены от обязательства подражания. Если и есть у Кафки нечто вроде противопоставления между проклятием и блаженством, то искать его надо не в том, как соотносятся друг с другом разные его произведения, – как это делалось применительно к «Процессу» и «Замку», – а только в противопоставлении всемирного и природного театров. К. в самом конце его процесса, похоже, тоже осеняет нечто вроде предчувствия
Сельским воздухом именно этой деревни у Кафки все и дышит , его вдыхают в себя живущие в его мире люди; их жесты говорят с нами на отжившем диалекте этих мест, а диалект этот появляется у Кафки в то же самое время, что и так похожие на него баварские рисунки на стекле, открытые в ту пору экспрессионистами в Рудных горах и окрестностях. Из этой же деревни и… (с. 73)
* * *«…не характер, а совершенно натуральная чистота чувства»
К этой чистоте чувства и взывает Оклахома. Дело в том, что в названии «природный театр» кроется двоякий смысл. Скрытый его смысл говорит нам: в этом театре люди выступают в соответствии со своей природой. Актерская пригодность, о которой думаешь в первую очередь, тут никакой роли не играет. Можно, однако, выразить это и так: от соискателей не ждут ничего, кроме умения сыграть самих себя. Вариант, при котором человеку всерьез придется и быть тем, за кого он себя выдает, судя по всему, вообще не рассматривается (с. 70). И здесь нам стоит вспомнить о тех персонажах Кафки, которые не имеют ни малейшего желания представлять из себя нечто «серьезное» в окружающем их буржуазном обществе и для которых «есть бесконечно много надежды». Это помощники. Но таковы – ни больше ни меньше – все мы в природном театре: помощники игры, которая, впрочем очень странным и лишь весьма неопределенно трактуемым у Кафки образом, сопряжена с развитием событий и их разрешением. Происходит же все это на ипподроме, на скаковой дорожке. Многое указывает на то, что ставка в этой игре – спасение. Итак, на длинной скамье…
Организация эта, конечно же, сродни фатуму
Это туманное место в его картине мира; место, где всякая прозрачность заканчивается. Мечников, который…
И старался показать эти границы другим. Он с невероятной выразительностью давал показаться этой границе в своих произведениях. Загадочное и непонятное в них он усиливал, и иногда кажется, что он вот-вот заговорит, как Великий Инквизитор у Достоевского: «Но если так, то тут тайна, и нам не понять ее. А если тайна, то и мы вправе были проповедовать тайну и учить их, что не свободное решение сердец их важно и не любовь, а тайна, которой они повиноваться должны слепо, даже мимо их совести». Определенная и весьма важная перспектива в художественном мире Кафки открывается только с этой точки зрения, хотя самой этой точки зрения для понимания этой перспективы недостаточно. Это перспектива жеста. Большое число эпизодов в его романах и рассказах лишь в этой перспективе обретает должное освещение. Впрочем, с этими жестами тоже дело обстоит совсем непросто. Дело в том, что все они происходят из сна. Бывают во сне определенные зоны, с которых, собственно, и начинается кошмар. У границы, на пороге этой зоны спящий судорожно напрягает все свои иннервации, чтобы избежать кошмара. Однако дадут ли эти иннервации высвобождение или, напротив, сделают кошмар еще более тягостным – это решается только после напряженной внутренней борьбы. В последнем случае они станут отражением не высвобождения, но раболепной покорности, угнетения. У Кафки нет ни единого жеста, который не отражал бы этой двойственности в момент всякого решения (с. 297). И это вносит в его художественный мир нечто неимоверно драматическое. В своем неопубликованном комментарии к «Братоубийству» Вернер Крафт необычайно ясно выразил этот драматический характер: «Теперь пьеса может начинаться…».
Можно со всей ответственностью заявить: приемы «Одиссеи» для Кафки – образец обращения с мифами вообще. В образе много повидавшего, бывалого, никогда не теряющегося Одиссея перед лицом мифа снова заявляет свои права на явность и действительность безвинная и потому безгрешная живая тварь. Притязание, которое в сказке гарантировано и более исконно, чем «правопорядок» мифа, пусть его литературные свидетельства и моложе. Что делает роль греков в европейской цивилизации несравненной, так это работа с мифом, которую они взяли на себя. Но работа эта вершилась двояко. Ежели героям трагиков в конце их страстей и мук даровалось спасение, избавление, то божественный терпеливец эпоса – Одиссей дает нам образец не столько даже терпеливого перенесения трагического, сколько обхитрения и подрыва его. И в этой последней роли именно он был учителем Кафки, что и доказывает нам история о молчании сирен.