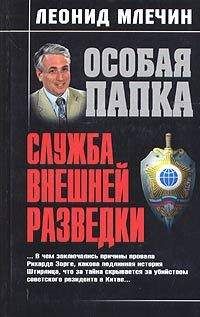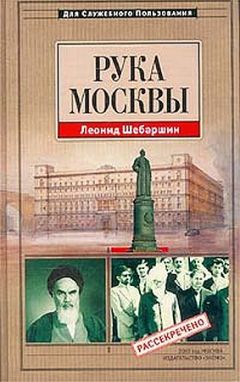Катрин Шанель - Последний берег
Я ответила Бирнбауму, что готова приехать.
Мать устроила мне небольшую сцену.
– Ты заманила меня в эту клинику, а теперь уезжаешь, чтобы они меня тут залечили до смерти?
– Мама, что ты говоришь. У тебя достаточно денег, чтобы купить себе жилище в любой части света. Почему ты так полюбила строить из себя бедную сиротку?
– Вероятно, с возрастом я стала больше ценить семейные узы, моя дорогая. А вот ты напротив. Кстати, этот твой доктор – он еврей? Ты же не выйдешь за него?
– Я не выйду ни за кого. Хватит с меня матримониальных планов. Скажи, ты не хотела б напоследок произвести небольшую увеселительную поездку? Развеяться?
– Хорошо. А куда именно ты бы хотела отправиться?
– В обитель сестер милосердия, где я выросла.
Мать посмотрела на меня искоса, словно хитрая птица:
– Странное у тебя представление об увеселительных поездках.
И все же мы поехали – вдвоем, как я всегда мечтала. И по дороге я рассказывала матери о своем детстве. О том, как добра была ко мне сестра Мари-Анж.
Шанель сдвигает черные брови:
– Эта монашка заменила тебе мать, не так ли? Я буду очень рада познакомиться с ней. Надеюсь, она не похожа на тех сестер, что воспитывали меня. Все они были отвратительными грымзами, помешанными на чистоте и дисциплине. Оно бы и неплохо – да только в их сердцах совсем не оставалось места для любви…
– Она тебе понравится, – обещаю я.
Я рассказываю ей о гипсовой фигурке святого, которую я обожала. Ее разбила вредина Виржини, и для меня это было первой утратой, настоящей утратой. А сейчас уже даже не помню, что это был за святой.
– Это хорошо, моя дорогая. У тебя легкое сердце.
– Что это значит?
– Не могу объяснить. Но мы с тобой с легкостью прощаемся с прошлым и всегда смотрим вперед. Нет ничего хуже для женщины, чем застрять сердцем в прошлом.
И я рассказываю ей об Октаве, которого вижу и сейчас.
Шанель долго молчала.
– Ты звала его Октавом?
– Да. Наверное, в детстве услышала это имя, и оно мне понравилось.
– Возможно. Или ты вычитала его в какой-нибудь старой книге. Похоже на имя какого-то романтического героя. Скажи, ты не обижена, что я не проявляю никакой привязанности к… к Октаву?
– Нет. Ты ведь совсем не знала его. Я знала его больше, чем ты. Хотя я знала только призрак, но он всегда мне помогал.
– Должно быть, страшно видеть мертвеца?
– Для меня он никогда не был мертв. Кого страшно было видеть, так это того доктора-наци, который исследовал связи между близнецами. Он убивал их медленно, и все, что смог доказать, – что эта связь не прекращается даже после смерти одного из них. Вероятно, наши души едины, и после смерти сольются в одну… А изучение медицины помогло мне понять: Октав, который видится мне, – это выведенная вовне фантазия, которая служит облегчающим механизмом. Проще говоря, он помогает мне преодолевать вину.
– Ты-то в чем виновата?
– В том, что осталась жить.
– C этим трудно поспорить. Знаешь, вероятно, я вообще не создана для материнства, Вороненок. Но я всегда хотела иметь сына. И когда ты в следующий раз увидишь Октава – скажи ему, что я любила бы его, если б он остался жить.
– Хорошо.
– Ты обиделась?
– Нет. Ведь я-то осталась жить.
Вот и стены монастыря. Они изменились, словно уменьшились, в них стало больше трещин, из трещин растет трава. Монахиня, чьего лица не разглядеть, выходит из ворот и идет по тропинке в рощу. Там, я знаю, бьет родник с удивительно вкусной и холодной водой, которая пахнет травяной свежестью. Для хозяйственных нужд воду берут из колодца на территории монастыря, но воду, над которой свершится потом таинство освящения, набирают именно из родника. Так и есть – монахиня несет в руках церковный сосудец с крестом и сердцем. Видимо, у нее хорошо на душе, она идет почти вприпрыжку и даже напевает что-то…
– Сестра!
Она замедляет шаг.
– Сестра Мари-Анж!
Она останавливается, и я спешу, бегу к ней, словно мне снова пять, семь, девять лет. Но ее лицо… Что с ее лицом?
Она доброжелательно улыбается, глядя на меня. Круглые розовые щеки, круглые ясные глаза. Эта сестра совсем молода, она даже не похожа на Мари-Анж. Только легкой походкой и жестом, которым она приветствует меня, округло поводя рукой, словно охватывая свои владения.
– Вы не узнаете меня?
Я качаю головой.
– Когда-то вы перевязали мне колено. Помните?
Я помнила, очень смутно, не лицо девочки, а рану на ее ноге. Рана была глубокая, но девочка не жаловалась. У нее была другая рана, в душе. Ее мать умерла, и она тоже хотела умереть. Хорошо, что она передумала.
– Вы дали мне платок, чтобы я вытерла слезы. Он пах чудесными духами, и я любила его нюхать. Я ждала, что вы вернетесь, чтобы отдать вам его. Сестра Мари-Анж говорила, что вы непременно вернетесь.
– А где она? – осторожно спрашиваю я. Но я уже знаю ответ. У этой серой сестры такое славное лицо. Она не хочет приносить дурные вести. Она машет рукой туда, где, я знаю, раскинулось маленькое кладбище – на нем хоронят только сестер и пансионерок.
– Она покинула нас сразу после войны, – говорит сестра. – Она совсем не хворала, просто время ее пришло. Когда война кончилась, в ней тоже словно кончилось что-то. Как будто сестра Мари-Анж только и ждала того момента, когда немцев прогонят, чтобы упокоиться с миром.
Я чувствую, как во мне поднимается протест. Она не должна была умирать, не повидавшись со мной! Она должна была быть здесь всегда, чтобы я в любой момент могла упасть лицом в складки ее серого платья, пахнущего лекарственными травами, и выплакать свою боль, свое разочарование.
– Она была уверена, что вы придете, – говорит сестра. – И даже оставила для вас кое-что. Очень просила меня передать. Она заменила мне мать, и не мне одной… Знаете, во время войны она прятала в монастыре еврейских детей.
Я кивнула. Откуда-то я знала это.
– Пойдемте внутрь, – пригласила монахиня. – Меня зовут Мишель. Сестра Мишель.
– Я помню, – сказала я, хотя и не помнила.
– И приглашайте вашу спутницу. Это ваша мать?
– Моя тетя, – зачем-то солгала я.
Я не могла сказать этой девочке, ставшей монахиней, что у меня есть мать.
Нас поили молоком и угощали свежими пирогами с черникой. Шанель осматривалась. Я чувствовала, что ей не по себе, и в то же время – что она в восторге от этого приключения. Сестра Мишель отвела нас на могилу Мари-Анж, а затем – в подземную молельню, где во время оккупации монахини прятали еврейских детей.
– Мы слышали, нацисты за это могут повесить. Но все равно принимали детей. Мы не понимали, что делать, пока наш архиепископ монсеньор Сальеж не осудил депортацию евреев как акт бесчеловечной жестокости и грех. Монсеньор был так смел, что упрекнул духовенство в том, что оно уступило нацизму… Я слышала это послание. Оно было прекрасным. Монсеньор говорил: «Почему в наших церквях больше не действует правило убежища? Почему мы сдались? Господи, сжалься над нами!» Сестра Мари-Анж сказала нам, что монсеньора убьют в его собственной постели, и велела молиться за него, но он был слишком заметным человеком, и его не тронули. Он говорил вещи, которых никто не смел сказать – что в нашей стране наблюдаются сцены неописуемого страдания и ужаса; что в Париже с десятками тысяч евреев поступают самым варварским образом, что с мужчинами и женщинами обращаются как с животными… Во имя христианской совести он объявил протест и заявил, что все люди – братья, созданные одним Богом, что нынешние антисемитские меры являются нарушением человеческого достоинства и священных прав человека и семьи. Теперь Папа повысил архиепископа Сальежа в сан кардинала. Кардинал Сальеж успел поблагодарить сестру Мари-Анж за все, что она сделала для гонимых. Она очень страдала за этих детей… Она знала, что многие из них больше никогда не увидят свою семью. Их приводили ночью, и матери плакали, прощаясь с ними. А когда в обитель пришли солдаты, сестра Мари-Анж сказала нам, что если нацисты захотят убить детей, то им придется сначала убить всех нас. И мы собрались в часовне и начали молитву, и солдаты не тронули никого… Они просто ушли.