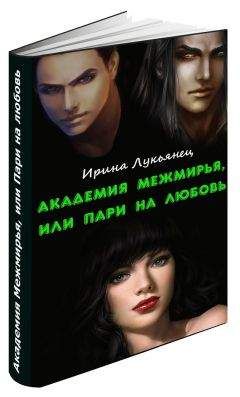Николай Карабчевский - Что глаза мои видели. Том 1. В детстве
Дядя Всеволод, полюбопытствовавший подробно оглядеть всю феерическую упряжку, точно чутьем угадал мои затаенные душевные муки и тотчас же объявил, что и у меня будет тоже и лошадка, и шарабанчик, и седло.
Он даже взял у каретника, который сооружал Toce шарабанчик, какой-то чертеж, по которому решил заказать подобный же в Николаеве, где очень славился «венский каретник».
Относительно же лошади дядя Всеволод просил Аполлона Дмитриевича не упустить случая, если подвернется подходящая, приобрести и доставить в Николаеве.
Когда мы возвращались с милым дядюхой обратно, на этот раз уже не в санях, а в крытом рессорном тарантасе, я чувствовал к нему такую нежность и такую любовь, сильнее и глубже которых, мне казалось, уже не может быть.
Весь он мне представлялся воплощением какой-то неиссякаемой доброты, которая, словно вода широкой реки, разлилась бы повсюду и ее хватило бы на всех, если бы ее не замыкали берега.
Глава тридцатая
По возвращении нашем из Херсона, уроки возобновились и их еще прибавилось.
Был приглашен новый учитель математики, также моряк с серебренными погонами (кажется штурман), но толковее прежнего нашего «туруруколы».
Я бывал рассеян и было иногда скучновато.
Слишком много было впереди ожиданий: гимназия, переход на житье к дяде Всеволоду и — видение далекого миража — конек, шарабанчик и седло…..
Мама находила, что это «затея» лишняя и слишком ранняя, но дядя Всеволод успокаивал ее, говоря, что первое время я могу ездить в шарабане с кучером, а верхом буду ездить с ним, или с Григорием Яковлевичем Денисевичем, который окончательно привился у нас в доме.
Мама все еще ходила в глубоком трауре и бывала нередко расстроена, даже, раздражена.
Сколько понимаю теперь, она таила какие-то личные переживания.
Заказанный дядею шарабанчик, в конце концов, удался на славу, но, Боже мой, сколько времени тянулось его сооружение. Мы, с милым дядей, ездили смотреть его, когда он был еще «в черне». Потом его грунтовали, потом красили, потом он еще «выстаивался» у каретника — и длилось это без конца.
С лошадью вышло и того хуже, — полное разочарование.
Из Херсона привели довольно видную, повыше Гнедыша. Но она оказалась и злою и норовистою. В стойле она раз ухватила меня за плечо зубами до синяка, а верхом два раза сбросила, поддав на ходу задними ногами.
Эти «злоключения» пришлось скрыть от мамы, но дядя Всеволод знал о них и очень сердился на Аполлона Дмитриевича и, даже, написал ему по этому поводу письмо.
Пришлось сбыть эту лошадь и искать другую. Временно ее сменила небольшая рыженькая, но неказистая на вид. Ей я обязан тем, что совершенно освоился с седлом и стал хорошо ездить верхом. Но в шарабанчике я почти на ней не ездил, рыси у ней хорошей не было и смешно было бы пускать галопом.
Только значительно позднее, когда я уже был почти год в гимназии, счастливый случай меня выручил и вознаградил за все.
Николай присмотрел вороненького конька, вполне подходящего, с чудесным ходом. Его владелец, юный офицер вновь прибывшего в Николаев пехотного полка, часто рысил на нем верхом мимо наших окон.
Но он его не продавал, несмотря на все подходы Николая, желавшего мне угодить.
Однако, как-то офицер сам явился с предложением «променяться лошадьми», желая получить придачу.
Дядюха, видя как я весь загорелся от ожидания, совсем не торговался и с приплатою «тридцати серебренников», потребованных офицером, «Арабчик» стал навсегда моим достоянием.
— Должно быть, проигрался в карты, вот и приспичило, пусть отыгрывается, сообразил дядя Всеволод относительно внезапной решимости бывшего владельца Арабчика.
Арабчик оказался чудной лошадкой, нисколько не уступающей Гнедышу, даже постатнее его.
Сколько неизгладимых минут счастья он доставил всей моей дальнейшей юности, — невозможно и перечислить.
Я расстался с ним только, когда уже уезжал в Петербург в университет, на семнадцатом году моей жизни.
Но как я забежал вперед…..
Пока его у меня еще не было и образ Гнедыша и тогдашние мои неудачи с лошадьми были источником немалых, страданий.
До лета в этот год время для меня тянулось и медленно, и как-то тревожно.
Подходящих сверстников в Николаев у меня теперь не было.
Вася и Платон (дети Владимира Михайловича Карабчевского от первого брака), с которыми я раньше довольно часто по настойчивому желанию «моей милой тети Лизы» виделся и играл, теперь были уже в кадетском корпусе в Полтаве. Родившийся же у самой тети Лизы, Сережа был еще на руках у няни и у меня не было больше повода бывать в доме Владимира Михайловича.
Сама, так некогда пленившая меня, черноокая, смуглая, стройная девушка теперь ждала уже второго ребенка.
Она почти никуда не выезжала, но раз я застал ее у мамы и сразу даже не узнал.
Лицо ее мне показалось опухшим, сама она как-то виновато все опускала потускневшие глаза.
Я, как всегда, поцеловал ее, но уже без прежнего волнения и восторженности.
Мне почудилось, что та уже похоронена, а эту мне только жалко.
Самым любопытным, и потому памятным, событием, совпавшим с ее визитом к маме, было ее сообщение о том, что у них сейчас гостит, неизвестно откуда взявшийся, старший брат ее мужа и покойного моего отца, Андрей Михайлович Карабчевский, о котором давно в Николаеве ничего не было слышно и которого склонны были даже считать умершим.
По ее словам это был уже седой старик, похожий «не то на художника, не то на монаха», немного странный, но довольно симпатичный.
Маму это известие оставило как-то странно равнодушной, она только промолвила: «покойный Платон знать его не хотел, это позор для рода Карабчевских»!
Потом приезжал еще Владимир Михайлович и очень убеждал маму «принять брата», который хотел бы засвидетельствовать ей свое почтение.
Он и в Николаев попал проездом именно затем, чтобы, «побывать в святых местах», помириться «по христиански» со своими близкими.
Разрешение, в конце концов, было дано.
Его появлению у нас предшествовало не мало частью странных, частью смешных, частью непонятных для меня разговоров.
Насколько я понял, выходило так.
Когда-то лихой гусар, красавец, кутила и картежник, потом временно актер, потом неизвестно что, но вечно живой и предприимчивый, он умудрился быть «троеженцем» т. е. одновременно мужем трех «настоящих» (т. е. обвенчанных с ним) жен.
Дядя Всеволод и мама оба это согласно утверждали, расходясь лишь в незначительных подробностях относительно дальнейшего.
Три жены Андрея Михайловича Карабчевского, не разделенные временем («одновременные»), были за то основательно разделены пространством: одна жила в Курске, другая в Симферополе, третья в Тифлисе.