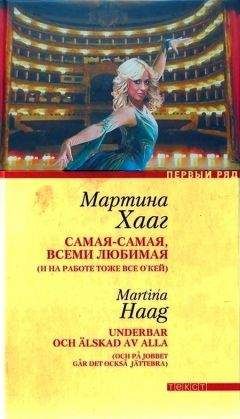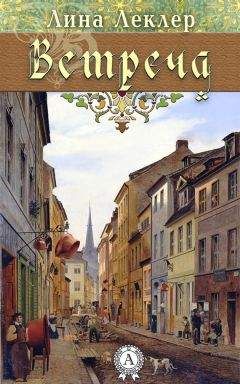Лина Хааг - Горсть пыли
Скоро я располагаю необходимой для поездки суммой денег. Однако гестапо запрещает мне выезд из города. Такое препятствие явилось для меня неожиданным, и я в полной растерянности. Сама судьба идет мне навстречу. Имперский военный суд вызывает меня в Берлин свидетелем защиты по давно забытому мной делу. Гестапо вынуждено разрешить поездку. Я еду.
И снова поезд идет мимо множества грязных домов с отвратительными железными балконами и развешанным на нем жалким тряпьем, мимо жилищ бедняков — летних лачуг, кое-как сколоченных из досок и кровельного картона, ярко раскрашенных, чтобы скрыть их убожество. Вижу улицы предместий с беспризорными детьми и голодными, роющимися в отбросах собаками, каменные колодцы дворов, куда не заглядывает солнце, грязные шторы в темных каморках — оборотную сторону столицы рейха. Рейха, в котором, по уверению прессы, радио и кино, нет больше нужды и нищеты. Зато имеется здоровый народ, «сила через радость», прелестные особняки, светлые квартиры, молодые сияющие матери, здоровые ухоженные дети, счастливый народ и любимый фюрер. Картины серого, унылого убожества сопутствуют моему безрадостному въезду в этот город. Это действует на меня угнетающе. И вот я стою, второй раз в моей жизни, покинутая и без цели, в грандиозной каменной пустыне Берлина, в твердой решимости, вопреки строгому предписанию гестапо города Гмюида, оставаться здесь, пока не добьюсь твоего освобождения. Но теперь вопрос: куда направиться, где жить?
У твоей сестры я остановиться не могу, у продажных Альбертов не хочу, остается только Эмиль Диттер, хороший старый друг юности. Его радость искренна. Он прежний. Нельзя сказать, что гестапо совсем оставило его в покое, но в крупном центре легче прожить незамеченным, чем в маленьком провинциальном захолустье. Его жена трогательно заботлива и очень старается устроить меня в их же доме. Действительно, удается снять маленькую пустую комнатку под крышей с крохотной кухней. Первую ночь сплю на полу, укрывшись взятым у Эмиля одеялом. Квартирную плату вношу вперед, у меня еще остается десять марок. На них я должна прожить две недели, пока не получу первые заработанные деньги. Не хочу больше одолжаться и просить взаймы у доброго Эмиля.
Биржа труда посылает меня на металлообрабатывающий завод. Сразу приступаю к работе. С семи утра до половины пятого я должна припаивать тонкие проволочки к крохотным колбочкам. Полчаса на обед. Если за день сделаю тысячу штук, заработаю три марки. Первые два дня делаю по триста штук, через неделю тысячу. Через две недели получаю первую зарплату, она небольшая, но могу досыта поесть. На кончиках пальцев волдыри, особенно на большом, указательном и среднем. Они гноятся, залечиваются и снова нарывают, пока через несколько недель на пальцах не образуются мозоли, такие твердые, какие бывают, вероятно, у пехотинцев на подошвах ног. Работа нетрудная, но совсем неинтересная, однако благодаря ей я приобретаю право оставаться в Берлине. Все остальное не имеет значения.
Медленно свыкаюсь с новыми условиями жизни и наконец получаю возможность подумать о себе, вернее — о тебе. Чувствую, что действовать надо очень осмотрительно. Сначала ходатайствую об освобождении Дорис. Ее брат и сестра по-товарищески помогают мне как-то обставить мое пустое жилище. У меня ни кровати, ни стола, ни стакана, ни чашки, ровным счетом ничего. Но постепенно появляется одно за другим, кое-что я покупаю, пока наконец не образуется та уютная обстановка, которую ты знаешь, мой дорогой. Конечно, не обходится без голодных дней, и часто, ничего не поев, окоченевшая от холода, я забираюсь под одеяло. Сваренного в воскресенье горшка горохового супа хватает мне до среды — это мой завтрак, обед и ужин. Самое трудное, когда вечерами, усталая, я возвращаюсь с работы домой и по многочисленным лестницам мрачного, огромного дома на Коммандантенштрассе поднимаюсь к себе наверх. Лестницам, кажется, не будет конца. Удушливая волна затхлых запахов и застоявшегося кухонного чада ударяет в лицо. Из-за дверей множества квартир явственно слышен голос нищеты — грубая перебранка, громкие крики детей.
Хуже всего чувствую себя после бесплодных хождений на поклон в здание на Принц-Альбрехтштрассе. Нет, нет, пойми меня правильно: я отнюдь не кланяюсь и не унижаюсь. Ты не должен думать, что там я пытаюсь пробудить жалость или, более того, обливаюсь горькими слезами. Господ из главного управления государственной безопасности это тронуло бы меньше всего. Для них чужие слезы — источник жизни. Слезы и кровь. Нет, если хочешь чего-нибудь добиться, надо придумать что-либо более действенное. Я составила себе детальный план и лишь тогда направляюсь к ним, когда у меня ясная голова, спокойно на сердце.
Там всегда одно и то же. Охрана меня уже знает. У окошечка заполняю анкету, всегда одни и те же неприятные вопросы, знаю их наизусть, ответы пишу быстро и уверенно. Так же привычно указываю, что прошу предоставить мне возможность изложить мою просьбу лично рейхсфюреру СС, хотя каждый раз, чтобы это написать, мне нужно преодолеть внутреннее сопротивление, ибо знаю, что просить об этом бессмысленно. У эсэсовцев эти строки уже не раз вызывали насмешливую улыбочку. Только вопрос анкеты «по какому делу?» меня каждый раз пугает. Яснее, нежели холодные пренебрежительные взгляды эсэсовцев, он говорит об очевидном безрассудстве задуманного мной плана.
Знаю — это безумие, но я должна так поступать, ибо я тебя люблю. Знаю, кто такой Гиммлер и что он собой представляет, что в рейхе он самый могущественный после фюрера, а я ничтожество, бедная, жалкая женщина, под надзором гестапо сейчас, а совсем недавно — из концлагеря, куда была брошена за «подготовку к государственной измене». Теперь, вопреки строгому запрету местного гестапо, — подсобная рабочая в Берлине. Знаю, что иду в логово деспота и что достаточно пустяка, ничтожной случайности, неудачно сказанного слова — и я вновь окажусь в тюрьме, и на сей раз наверняка навсегда. Доставленных к Кёгелю стегают плетьми и бросают в темный карцер, мне известно, какой обычно оказывается прием рецидивистам. Поэтому я зашила в бюстгальтер половинку бритвенного лезвия. Как видишь, я обо всем подумала. Знаю, в концлагерях содержатся сотни тысяч заключенных и часть из них еще жива только потому, что их так много; а непреклонные, как ты, существуют, пожалуй, только по недосмотру или потому, что некоторое время они еще нужны как рабочая сила. Обо всем этом я знаю. Знаю также, что вопрос об освобождении решает исключительно комендант лагеря. Возможно, это еще относится к компетенции местного гестапо, и господа из центрального гестапо, получив мое ходатайство, в лучшем случае будут удивлены, как это, невзирая на их столь основательную и усердную работу, в Германии все еще сохранились в живых члены КПГ и антифашисты.