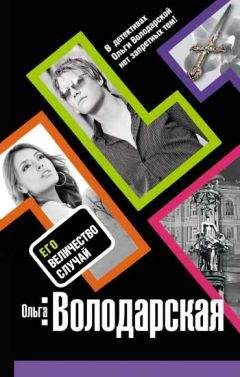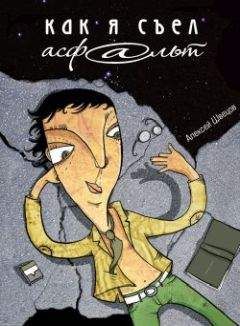Реми Гурмон - Книга масок
В некоторых картинах ясно видно их происхождение. Но сколько других поражают дерзновением новой красоты!
О, золотистая Марна,
Ведь лодочник, плывя по тебе, думает,
Что скользит по берегам, домам и виноградникам.
Это, без сомнения, только пересказ латинского стиха Авсония, рисующего реку Мозель:
Зеркалом вод отражен, плывет виноградник.
Автор «Золотой Головы» любит погружаться в зрительные воспоминания. У него могучая зрительная память. Он читает мысли в движениях естества. «Люди, точно листья пышного мая, сближались в спокойных поцелуях». Вот женщина, плачущая над трупом:
Взгляните, как клонится она: что подсолнечник
отцветший,
Который к земле свой лик, полный семян, обратил.
И еще:
Печален час, как поцелуй двух женщин в трауре.
Вот картина прощания:
И очертанья той, что пела, цветы сбирая,
Так в сумерках глубоких стерлись,
Что видны только глаза да рот, который лиловым
кажется.
Небо, оставаясь на высоте, волнует наше воображение, как
Звездный садок прозрачный, туманная стрельба охоты.
Такова жизнь, видимая сквозь сеть образов, сама жизнь во всем ее внутреннем очаровании. В медленных строках поэта природа трепещет и погружается в мечты, точно женщина, которую лодка уносит в сумрак вечера. Даже олицетворенные понятия, как живые существа, вздымают руки, и голубая кровь течет в их жилах. Вот «Победы, идущие по дороге, точно жницы с темными, как дубовая кора, щеками, под покрывалом, с бубнами у золотых бедер». Образы такой силы, точно они возникли во мраке взволнованного сознания, в рассеянных нервных узлах мыслящего тела:
Что буду делать с множеством своим,
Когда все тело покроется членами, как гора,
Что вырубкой щетинится?
Как плод один, соединили губы мы,
А косточка – то наши души.
Самые грубые проявления животной жизни приобретают у него благородное значение: люди, умирающие на поле битвы, «шевелятся, как креветки».
Трагедия, полная образов, трагедия, богатая мыслями. «У одинокого всегда есть товарищ: собственное слово». «Мужчина должен отдавать свою кровь, как женщина свое молоко». Эти образы, эти идеи, живые и великолепные создания, облеченные всем богатством
крови, волос, тела, движутся и расцветают среди роскошного леса сверхчеловеческих страданий.
Мы говорим только о «Золотой Голове». Однако, мои слова, перешагнув поставленную им границу, не достигают, быть может, той торжественной высоты, отражение которой хотелось бы дать в них. Мы вступили в обитель огромного гения, и шаги наши отдаются на плитах многократным эхо. Но обилие звуков может помешать нам расслышать то, о чем шепчутся тихие голоса за колоннами.
В наше время, когда литературные мнения подчиняются постыдному влиянию нескольких убогих умов, бесполезно говорить о таланте автора «Золотой Головы» иначе как в самых общих словах. Если мы скажем, что у него трагический дар и все властные достоинства великого драматического поэта, лишь немногие обернутся и посмотрят на нас без злой усмешки. Факир славы, предпочитающий лучше остаться неизвестным, чем быть непонятым, он укрылся в тайной могиле. Прекрасная поза убедительна. Пароль молчания соблюдался поэтом и его друзьями в течение семи лет, соблюдался с благоговением, поистине примерным. Но те, кого это молчание заставляло страдать, быть может, простят меня за то, что я его нарушил. Я не хотел бы жить в такое время, когда одни только безнадежные посредственности вызывают похвалы. Не люблю я блуждать по берегу темного царства теней.
Когда я перечитал «Золотую Голову», она опьянила меня поэзией и искусством. Но, признаюсь, это слишком крепкое вино по теперешним временам. Хрупкие маленькие жилки начинают биться у глаз, веки закрываются, величественная картина жизни колеблется и исчезает на пороге сознания, истомленного долгим отсутствием мыслей. В «Золотой Голове» идеям придан драматический оттенок. Произведение это требует от читателя умственной работы. Между тем люди, как дети, хотели бы собирать цветочки на ровном лугу. Но надо быть безжалостным к беззаботной праздности. От автора «Золотой Головы» и «Города» мы требуем чего-то неведомого, созданного молчанием семи лет.
Рене Гиль
РЕНЕ ГИЛЬ – поэт философской мысли. Его философия жизнерадостна в духе пантеистического позитивизма: мир развивается от зародыша к полноте, от бессознательности к разуму, от инстинкта к закону, от права к обязанности – всегда к лучшему. Это теория бесконечного прогресса, притом окрашенная повышенной чувствительностью, трансформации явлений при помощи любви. Говоря короче, хотя и менее ясно, можно назвать ее мистическим позитивизмом.
Мистический позитивизм, в сущности, и есть настоящий позитивизм, позитивизм Конта и его самых верных учеников. В своих главных понятиях позитивизм воспринял современное признание философского реализма, но для его последователей слово это сохранило свой благоговейный, нежный, почти любовный смысл.
Несомненно, позитивизм есть вывернутое наизнанку христианство: то, что одно верование ставит в начале, другое полагает в конце. Был ли земной рай первой ступенью в жизни человечества или будет его последним этапом – вопрос чисто внешний. Люди непочтительные относят его к истории народных суеверий. Они указывают на то, что вера в изначальный земной рай существовала всегда и до сих пор распространена по всему земному шару. Затем они с неменьшим удовлетворением ссылаются на то, что вера в будущий земной рай, если откинуть милленаризм и некоторые другие утопии, появилась впервые в начале восемнадцатого века. Точные изыскания легко устанавливают дату, приблизительно совпадающую со временем фантастических писаний аббата Сен-Пьера, человека, одаренного гением причудливых идей.
Поощряемая наблюдениями Дарвина и немецкой эволюционной философией, а также и могущественной иллюзией современного материального прогресса, идея будущего земного рая стала основой социализма. Теперь все европейские народы убеждены, что возможность полного социального благополучия получила научное обоснование.
Итак, на верхах жизни умы развитые верят в наступление века справедливости, доброты, любви, просвещения, а внизу простые души ждут счастья осязаемого, реального, телесного. Среды более благоприятной для поэта, избравшего темой своих песен грядущие радости, не было никогда. Если б Рене Гиль не извратил свой талант и свою лиру, он, обращаясь к толпе, находил бы слова для ее собственных мыслей, истолковывал бы ей собственные ее темные желания. Но язык Гиля делает эту задачу для него невозможной.