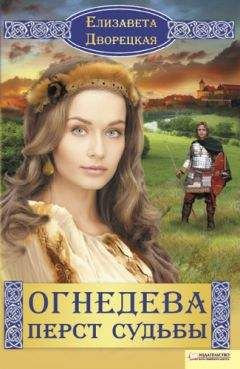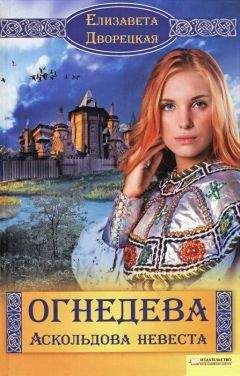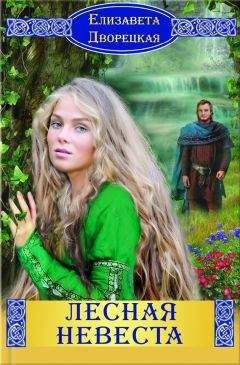Бернгард Рубен - Зощенко
Войдя в ресторан, мы сразу увидали Луначарского. Он сидел за столом и пил зельтерскую. Я познакомил его с Зощенкой, и пошли к нему в номер, он впереди, не оглядываясь. Вошли в комнату. <…>
Тут же он подписал бумажку о разрешении мне и Зощенко ездить по взморью под парусом и заявил, что сейчас идет играть с секретарем на биллиарде.
<…>…мы откланялись. <…>
Тут Зощенко поведал мне, что у него, у Зощ., арестован брат его жены — по обвинению в шпионстве. А все его шпионство заключалось будто бы в том, что у него переночевал однажды один знакомый, который потом оказался как будто шпионом. Брата сослали в Кемь. Хорошо бы похлопотать о молодом человеке: ему всего 20 лет. Очень бы обрадовалась теща.
— Отчего же вы не хлопочете?
— Не умею.
— Вздор! Напишите бумажку, пошлите к Комарову или к Кирову.
— Хорошо… непременно напишу.
Потом оказалось, что для Зощенки это не так-то просто. — Вот я три дня буду думать, буду мучиться, что надо написать эту бумагу… Взвалил я на себя тяжесть… Уж у меня такой невозможный характер.
— А вы бы вспомнили, что говорит Марциновский.
— А ну его к черту, Марциновского.
И он пошел ко мне, мы сели под деревом, и [он] стал читать свои любимые рассказы: „Монастырь“, „Матренищу“, „Исторический рассказ“, „Дрова“.
И жаловался на издателей: „ЗИФ“ за „Уважаемых граждан“ платит ему 50 % гонорара, „Пролетарий“ его и совсем надул, только и зарабатываешь, чтоб иметь возможность работать.
Зощенко очень осторожен — я бы сказал: боязлив. Дней 10 назад я с детьми ездил по морю под парусом. Это было упоительно. Парус сочинил… <…> очень ловкий механик и техник. Мы наслаждались безмерно, но когда мы причалили к берегу, оказалось, что паруса запрещены береговой охраной. Вот я и написал бумагу от лица Зощенко и своего, прося береговую охрану разрешить нам кататься под парусом. Луначарский подписал эту бумагу и удостоверил, что мы вполне благонадежные люди. Но Зощенко погрузился в раздумье, испугался, просит, чтобы я зачеркнул его имя, боится „как бы чего не вышло“, — совсем расстроился от этой бумажки. <…>
Неделю тому назад он рассказал мне, как он хорош с чекистом Аграновым. „Я познакомился с ним в Москве, и он так расположился ко мне, что, приехав в Питер, сам позвонил, не нужно ли мне чего“. Я сказал Зощенке: „Вот и похлопочите… <…>“. Он сразу стал говорить, что Агранова он знает мало, что Агранов вряд ли что сделает и проч. и проч. и проч. И на лице его изобразился испуг». (Упоминаемый в их разговоре Я. С. Агранов был тогда заведующим секретно-политическим отделом ОГПУ и специализировался на работе с творческой интеллигенцией; затем, в 1934 году, стал заместителем наркома внутренних дел Г. Г. Ягоды, и в 1938 году был вместе с ним и другими работниками «органов» расстрелян.)
Эта запись сделана за десять лет до той пресловутой даты, которая стала символом сталинских массовых репрессий. А тогда, в 1927 году, ссылали по большей части в «подстоличную Сибирь», в карельские Кемь, Кандалакшу и в главный тамошний «лагерь особого назначения» на беломорских Соловках — «СЛОН». Сравнительно с грянувшими вскоре на восток потоками тридцатых годов то были еще людские ручьи и речки, быстро слившиеся, однако, в этой части ГУЛАГа в Беломорско-Балтийский канал имени Сталина, строившийся тысячами заключенных и воспетый в особом фолианте целой артелью советских писателей во главе с Горьким, среди которых был и Михаил Зощенко. Та знаменательная книга вышла в свет в 1934 году.
Но пока следует понять состояние Зощенко в 1927 году, причины его столь осторожного, боязливого поведения в обиходной жизни, зафиксированного в «Дневнике» Чуковского со всей нелицеприятностью прирожденного наблюдателя-летописца, неустанно вбиравшего в себя события и характеры известных людей своего времени.
Казалось бы, трусость никак несовместима с его натурой. Это он доказал и на фронте, и в литературе. Только что вышли в свет как раз те его три книги — «Уважаемые граждане», «Нервные люди», «О чем пел соловей», — в которых он (воспользуемся известным выражением его же собственного персонажа) «развернул свою идеологию в полном объеме». Что же делало его совершенно иным человеком в тех обстоятельствах, о которых сообщает Чуковский? Конечно, Зощенко был деликатен, стеснителен и особенно неумел в отношениях со всякими должностными, начальственными лицами. В том же августе, в конце, Чуковский записал, как они с Зощенко побывали в издательстве «Academia», где ему надо было взять письма Блока и где Зощенко показали готовящуюся о нем книгу со статьями видных авторов и его собственным вступлением:
«В „Academia“ ему сказали, что еще одну статью о нем пишет Замятин. Он все время молчал, насупившись.
— Какой вы счастливый! — сказал он, когда мы вышли. — Как вы смело с ними со всеми разговариваете».
Робел Зощенко и пойти к Луначарскому, наркому просвещения и писателю, хотя сам находился уже в зените своей писательской славы. Воистину, наши недостатки есть продолжение достоинств. А Чуковский мог зайти к Луначарскому в номер босиком — дело курортное, оба литераторы, люди демократичные…
Но ведь еще в 1922 году в той разудалой «антиидеологической» статье в «Литературных записках», которую так изничтожающе использует против него главный партийный идеолог Жданов четверть века спустя, Зощенко, будучи еще только начинающим, с веселым сарказмом заявлял: «Из современных писателей могу читать только себя и Луначарского». Не побоялся поддеть наркома и тем бросить добавочный камушек во власть. И ныне для готовящейся в «Academia» книги о нем написал такое вступление, которое, как отметил Чуковский в своем «Дневнике», «мне не очень понравилось — как-то очень задорно, и хотя по существу верно, но может вызвать ненужные ему неприятности». Выходит, литературная смелость отделялась у него от повседневного поведения? Или, может быть, его осторожность, боязливость, робость во взаимоотношениях с окружающей действительностью как раз и были призваны — и он это интуитивно чувствовал — оградить свой письменный стол, защитить, спасти его смелое слово в литературе, не давая никому лишней зацепки, повода для обвинения и расправы с ним на бытовом уровне? Наверное. Ведь как просто могли связать в ГПУ «шпионство» брата его жены с намерением самого Зощенко выходить на лодке с помощью паруса подальше в море…
Но, видимо, он чувствовал уже всю бесполезность противодействия этой реальности. Потому и литературная смелость тоже стала давать у него в это время задний ход. Как только Чуковский высказал ему свое мнение о вступительной статье, Зощенко тут же приделал к ней «Предупреждение», в котором говорил о случайности ее появления, о ее спорности, о том, что «и сам сейчас не совсем согласен с ней», и просил, «чтобы читатель более терпимо отнесся к этой моей случайной статье». Оставляя статью в неприкосновенности и тем самым настаивая на ней, он наивно заметал следы, заранее оправдывался, подстилал соломку…