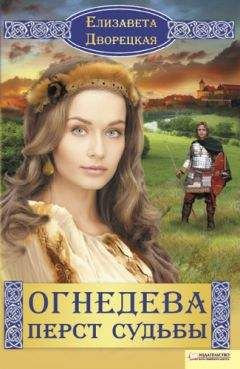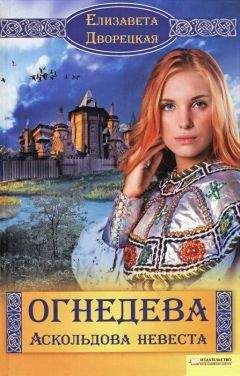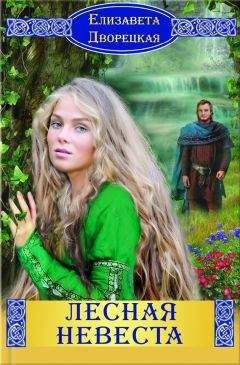Бернгард Рубен - Зощенко
Еще одна запись Чуковского (5 августа 1927 года):
«<…> Два раза б[ыл] у меня Зощенко. Поздоровел, стал красавец, обнаружились черные брови (хохлацкие) — и на всем лице спокойствие, словно он узнал какую-нб. великую истину. Эту истину он узнал из книги J. Marcinovski „Борьба за здоровые нервы“, которую привез мне из города. „Человек не должен бороться с болезнью, потому что эта борьба и вызывает болезнь. Нужно быть идеалистом, отказаться от честолюбивых желаний, подняться душою над дрязгами, и болезнь пройдет сама собою! — вкрадчиво и сладковато проповедует он. — Я все это на себе испытал, и теперь мне стало хорошо“. И он принужденно усмехается. Но из дальнейшего выясняется, что люди ему по-прежнему противны, что весь окружающий быт вызывает в нем по-прежнему гадливость, что он ограничил весь круг своих близких тремя людьми… <…> что по воскресеньям он уезжает из Сестрорецка в город, чтобы не видеть толпы. По поводу нынешней прессы: кто бы мог подумать, что на свете столько нечестных людей! Каждый сотрудник „Кр[асной] Г[азеты]“ с дрянью в душе — даже Радлов (который теперь ред. „Бегемота“). О Федине: „Рабиндранат Тагор. Он узнал, что я так называю его, — и страшно обиделся“».
<…> О себе: «Был я в Сестрорецком Курорте. Обступили меня. Смотрят как на чудо. Но почему? — „вот человек, который получает 500 рублей“.
Стал я читать книгу, которую он привез мне из города — труизмы в стиле Christian Science. Но все они подчеркнуты Зощенкой — и на полях сочувственные записи. Подчеркиваются такие сентенции: „Путь к исцелению лежит в нас самих, в нашем личном поведении. Наша судьба в наших собственных руках“. А записи такие: „И литература должна быть прекрасна!“».
Как видно из этой записи Чуковского, одним из главных раздражителей для Зощенко были людские изъяны — нечестность, зависть, «дрянь в душе». Он уверен, что «нужно быть идеалистом». И хотя речь шла о данном моменте, но это требование к себе отвечало природным свойствам его души, проявлявшимся с детства.
Затем, 15 сентября, Чуковский заносит в «Дневник» такой портрет Зощенко:
«<…> Был у меня вчера Зощенко. Кожаный желтый шоферской картуз, легкий дождевой плащ. Изящество и спокойствие. „Я на новой квартире, и мне не мешают спать трамваи. В Доме Искусств всю ночь — трамвайный гуд“. Заплатил тысячу въездных. На даче его обокрали. Покуда он с женой ездил смотреть квартиру, у него похитили брюки (те, серые!), костюм и пр.
Выпускает в ЗИФе новую книгу „Над кем смеетесь“.
„Считается почему-то, что я не смеюсь ни над крестьянами, ни над рабочими, ни над совслужащими — что есть еще какое-то сословие зощенковское“.
Принес мне „Воспомин. Фета“. Очень ему понравились там письма Льва Толстого. Просил дать ему Шенрока „Письма Гоголя“».
Но вскоре у Зощенко — следующее тягостное колебание в настроении, подробно описанное Чуковским (26 ноября 1927 года):
«<…> Увидел третьего дня вечером на Невском какого-то человека, который стоял у окна винного склада и печально изучал стоящие там бутылки. Человек показался мне знакомым. Я всмотрелся — Зощенко. Чудесно одет, лицо молодое, красивое, немного надменное. Я сказал ему: — Недавно я думал о вас, что вы — самый счастливый человек в СССР.
У вас молодость, слава, талант, красота — и деньги. Все 150 000 000 остального населения страны должны жадно завидовать вам.
Он сказал понуро: — А у меня такая тоска, что я уже третью неделю не прикасаюсь к перу. Лежу в постели и читаю письма Гоголя, — и никого из людей видеть не могу. — Позвольте! — крикнул я. — Не вы ли учили меня, что нужно жить, „как люди“, не чуждаясь людей, не вы ли только что завели квартиру, радио, не вы ли заявляли, как хорошо проснуться спозаранку, делать гимнастику, а потом сесть за стол и писать очаровательные вещи — „Записки офицера?“ и проч.?!
— Да, у меня есть отличных семь или восемь сюжетов, — но я к ним уже давно не приступаюсь. А люди… я убегаю от них, и если они придут ко мне в гости, я сейчас же надеваю пальто и ухожу… У нас так условлено с женою: чуть придет человек, она входит и говорит: Миша, не забудь, что ты должен уйти…
— Значит, вы всех ненавидите? Не можете вынести ни одного?
— Нет, одного могу… Мишу Слонимского… Да и то лишь тогда, если я у него в гостях, а не он у меня…
Погода стояла снежная, мягкая. Он проводил меня в „Радугу“, ждал, когда я кончу там дела, и мы пошли вместе домой. Вина он так и не купил. По дороге домой он говорил, что он непременно победит, сорганизует свое здоровье, что он только на минуту сорвался, и от его бодрости мне было жутко. Он задал мне вопрос: должен ли писатель быть добрым? И мы стали разбирать: Толстой и Достоевский были злые, Чехов на[та]скивал себя на доброту, Гоголь — бессердечнейший эгоцентрист, один добрый человек — Короленко, но зато он и прогадал как поэт. „Нет, художнику доброта не годится. Художник должен [быть] равнодушен ко всем!“ — рассуждал Зощенко, и видно, что этот вопрос (его) страшно интересует. Он вообще ощущает себя каким-то инструментом, который хочет наилучше использовать. Он видит в себе машину для производства плохих или хороших книг и принимает все меры, чтобы повысить качество продукции».
Потом — снова подъем, отмеченный Чуковским 3 января 1928 года:
«<…>На Литейном я встретил Зощенку. Он только что прочитал моих „Подруг поэта“ — и сказал:
— Я опять вижу, что вы хороший писатель.
Несмотря на обидную форму этого комплимента, я сердечно обрадовался.
Он „опять воспрянул“, „взял себя в руки“, — „все бегемотные мелочишки я пишу прямо набело, для тренировки“, „теперь в ближайших номерах у меня будет выведен Гаврюшка, новый герой, — увидите, выйдет очень смешно“».
Однако перемеженье светлых и темных полос в его душевном состоянии продолжалось. Причем нередко ипохондрия одолевала Зощенко настолько, что он был не в силах работать. И приходилось отказываться от уже договоренного сотрудничества. В этих случаях всегда проявлялась его крайняя щепетильность. Так, осенью 1928 года у него вновь началось недомогание, напрочь выбившее его из рабочей колеи. Но перед тем ему было сделано выгодное предложение — работать для журнала «Смехач» на регулярной основе, быть у них постоянным автором. И чтобы прочнее закрепить эту связь Зощенко с журналом, ему назначили там ежемесячные денежные выплаты независимо от поступления материалов. Приглашение прийти за деньгами повергло его в смятение. Зощенко тотчас послал одному из ведущих работников журнала следующее письмо:
«<…> К сожалению, я никак не могу взять мои деньги. Я ничего еще не сделал для „Смехача“ и в скором времени навряд ли что сделаю. Совсем неожиданно мое здоровье до того ухудшилось, что я валяюсь в кровати и ничего не могу делать. Работа не идет на ум, хандрю и проклинаю свое жалкое существование. Я понимаю — особой болезни у меня нет, но то душевное состояние, в котором я сейчас, — буквально не позволяет приняться мне за работу. <…> Сейчас меня едва хватает сочинить две-три жалкие мелочишки для „Пушки“. И то я это делаю, чтоб не порвать всякую связь с работой. <…> Еще месяц назад я думал, что я окончательно поправился, и вот опять. <…> И я очень прошу Вас, войдите в мое положение и аннулируйте (временно) наше соглашение. Одним словом — покорнейше прошу Вас, — снимите меня с жалованья до тех пор, покуда я сколько-нибудь не приду в нормальное состояние и не начну работать. Получать же деньги просто так мне морально тяжело и на это я, конечно, никогда не пойду. И если „Смехач“ из вежливости и предлагает мне получать (как больному), то я ни в коем случае не соглашусь. <…> А пока оплакиваю свои молодые годы, когда легко, и весело, и просто было работать и когда было много бодрости и любопытства к людям. Сейчас же мне только скучно, и, кажется, в этом вся моя болезнь. <…> Но все же надеюсь на лучшие времена» (11 октября 1928 года).