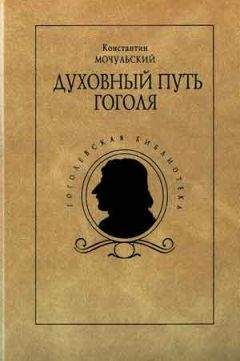Константин Мочульский - Андрей Белый
Богоявление, теофания, видение «фаворского света», «огонь поедающий» — этими словами-символами говорили все мистики— и Симеон Новый Богослов и Святой Иоанн Креста. Все они, обожженные экстазом, жили в свете Преображения. Белый продолжает: «Второе пришествие началось. Этой правдой и был я исполнен, отчетливо не познавая ее… Самое бытие мое есть неприличнейший крик перед жизнью, уже обреченной на гибель: и оттого-то страшно, я властен не страхом и властью, а полной беспомощностью».
«Неописуемое событие», которое могло бы стать для Белого путем спасения и святости, привело его к страшной катастрофе, почти к гибели. Его мистический опыт был искажен и извращен антропософской ересью и оккультными туманами. Не Христос Богочеловек являлся ему, а соблазнительный Его двойник, придуманный доктором Штейнером. Экстазы разрешились тяжелой душевной болезнью. Белый рассказывает о ней и пытается ее объяснить: после света наступила тьма, после прозрения— слепота. «Да, явление света (воочию) не удивляет меня: это было тому назад, девять лет; десять лет ничего я такого не вижу; и не увижу. Так тьма поглотила меня». И дальше: «Свет ослепил меня. Я теперь стал слепым. Ничего не вижу». В Дорнахе он заболел: потерял сознание и грохнулся на землю. Его уложили в постель; ему казалось, что он умирает. Пять недель пролежал как труп. Доктор определил сердечный невроз. Осенние и зимние месяцы 1914 года прошли томительно. «Я был, как сожженный ниспадавшим огнем; а вне этих огневых прилётов, себя ощущал: пропаленной колодой». Речь его была затруднена: «я потерял всякий дар выражения».
Он объясняет свое «ниспадение в тьму» духовной неподготовленностью, неумением «справиться со светом». Ему представлялось, что его личная драма таинственно связана с мировой катастрофой — началом войны 1914 г.
«По себе знаю я: свет экстаза, свет умный, при неумении справиться с ним, переходит в цветущую чувственную краску, — так точно, как свет Христов, ложно воспринятый, затемняется пестротой александрийского синкретизма… Мне чудились голоса голосящих громов из пространства души; в местах ясности образовались заторы чудовищных похотей. Мне казалось в первую осень войны: это я ее вызвал; во мне начиналась она. Непримиримый сознательный бой с двойниками моими кипел уже в июне… Ангел во мне, борясь с чертом, в борьбе чертенел… Так взрывы во мне стали взрывами мира: война расползлась из меня— вокруг меня…
В том месте, где жил человек, осталась кучка холодной золы; подул ветер: зола разлетелась, развеялась в воздухе, человека — не стало».
В сознании собственной вины («неумение справиться со светом») есть еще проблески смирения и раскаяния; но скоро они гаснут в надвигающемся мраке. Душевная болезнь появляется сначала в образе «mania grandiosa». Белый уверен, что его внутренний конфликт порождает мировую войну. Он смело утверждает: «голод, болезни, война, голоса революции — последствия странных поступков моих; все, что жило во мне, разорвавши меня, разлетелось по миру… Катастрофа Европы и взрыв моей личности— то же событие: можно сказать: „Я“ — война; и обратно: меня породила война; я— прообраз; во мне— нечто странное: храм, чело Века». Отсюда до величавого сознания себя Царем мира— один только шаг. Мы спускаемся все глубже во тьму безумия. «Есть в оккультном развитии, — продолжает Белый, — потрясающий миг, когда „я“ сознает себя господином мира; простерши пречистые руки, „я“ сходит по красным ступеням, даруя себя в нем кишащему миру. Соединение с космосом совершилось во мне; мысли мира сгустились до плеч: лишь до плеч „я“ — свой собственный; с плеч поднимается купол небесный. Я, собственный череп сняв с плеч, поднимаю, как скипетр, рукою моею».
И в безумии Белый остается поэтом: в его навязчивых идеях— подлинное поэтическое вдохновение.
Мания величия с роковой неизбежностью переходит в манию преследования. Он— виновник войны; он— бомба, грозящая взорвать мир, и «враги», оккультно управляющие человечеством, должны его уничтожить. «Мне ясно: они знают все: они знают, что я есмь не я, а носитель огромного „я“, начиненного кризисом мира; я — бомба, летящая разорваться на части, и, разрываясь, вокруг разорвать все, что есть».
Но даже если «враги» его истреблены, все равно он взорвет мир. «Но в могиле, на родине, в русской земле, мое тело, как бомба, взорвет все, что есть, и огромною атмосферою дыма поднимется над городами России».
Рассказ о Генерально-Астральном Штабе мировых шпионов-оккультистов принадлежит к самым невероятным выдумкам Белого-поэта. Это фантастика безумия.
«Представители государственного порядка всех стран и народов!» — восклицает автор. «Но „государство“ — экран, за которым они схоронили ужасную тайну свою. Они, надувая людей, бессознательно преданных им, через них выдувают в историю государственных отношений смерчи мировых катастроф — войны, „болезни“. Там, в астрале, поставлены аппараты, подобные минам: поставлены так, чтобы едва душа вынырнет из повседневного сна и раскроется как цветок, по направлению к свету, как… — выстрелит мина: и сэр сообщит куда следует, что родился „младенец“».
Фантастическая выдумка, достойная Гофмана и Эдгара По!
Летом 1916 года Белый и муж сестры Аси — Поццо получили из России извещение о том, что они призываются на военную службу. Они отправились в Берн в английское консульство хлопотать о визе. Им было заявлено, что им необходимо получить от швейцарской полиции свидетельство о благонадежности. Белый взволнован: конечно, английскому чиновнику он показался подозрительным. И снова невероятная выдумка: чиновник заведует шпионажем, он— оккультист, — и сразу понял, в чем дело: усыпил «человека-бомбу», увлек его спящего в Генерально-Астральный Штаб и узнал все, что ему было нужно. С тех пор над ним учрежден надзор: к нему приставлен «брюнет в котелке», следующий за ним по стопам. За получением свидетельства путешественникам приходится вернуться в Дорнах. Белый бежит в Иоанново здание и там находит Нэлли: она чертит на дереве плоской формы. Они идут в последний раз гулять в горы. «Жмурилась Нэлли от солнца и закрывала лицо такой маленькой ручкой, напоминающей стебелечек цветка — о пяти лепестках. Моя Нэлли— мудреная, сложная, строгая, показалась в тот вечер мне фейкой над водами». Наконец, свидетельство было получено; Нэлли провожала на вокзал, ее взгляд говорил: «Люби! не забудь! жди меня!» Она махала платком и плакала. Отъехали от Берна. Белый пишет: «И — нет дальше почвы: ведь Дорнах был мне тем кусочком земли, на котором я мог стоять крепко. До той поры, когда рухнуло все; мировая война заревела пустотами мира, проела стальными зубами тела, души наши. А Нэлли еще оставалась в том мире, который навеки, быть может, ушел от меня. Нэлли говорила: „Молчи! Я с тобою еще! Я тебя защищаю. Наступит вот время, когда…“»