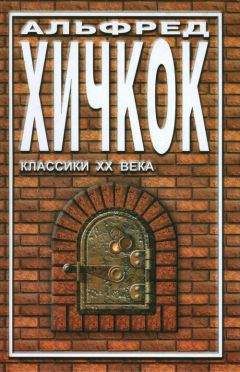Юрий Сушко - Подруги Высоцкого
В этот момент дверь приоткрылась, и в комнату заглянул улыбающийся Володя Васильев, за спиной которого подпрыгивала его жена Катя Максимова: «Привет! Что тут за заговор?! Ну-ка, колитесь! Там именинница уже мается, переживает… А ты тут за нее пьете?.. Нехорошо».
– И впрямь нехорошо. Все, заканчиваем, ребята, мы увлеклись, – Элем, вспомнив о своей режиссерской закваске, в один момент превратился в «хозяина площадки». – Большой театр уже пожаловал! Подъем! Вперед! К главному столу!
…Попозже, во время которого уже по счету перекура, Климов-старший вновь зацепил Высоцкого:
– Володя, так когда будут готовы стихи?
– Да я могу хоть сейчас, прямо отсюда поехать домой, к маме, где я ныне обретаю, и привезти все тексты, – тотчас предложил Высоцкий. – Хочешь?
Вмешалась Лариса:
– Да нет, сейчас неудобно. Можно позже. Белла просила еще попеть. Не разрушай компанию. Потом с Германом поедешь и все привезете. Мы вас будем ждать.
Когда соавторы все-таки собрались и умчались, Ахмадулина, вернувшись к оставшимся гостям, тихо сказала: «Знаете, у меня возникает какое-то неопределенное предчувствие. А хороших предчувствий, как известно, не бывает…»
«Но ведущим в той поездке был Высоцкий, который чрезмерно выпил в честь Беллы, – каялся позже Герман Климов, – и мы в итоге оказались совсем не у его мамы. А утром он исчез. На несколько дней. Отправился, как сам потом говорил, в пике, в очередной полет, который в тот раз начал с посещения бани вместе с хоккеистами ЦСКА. В итоге мы отказались от его услуг в фильме, но дружить не перестали…»
Кстати, в «Спорте…» Лариса все-таки изменила данному когда-то себе слову и снялась в сюжете о купце Калашникове, где изображала роскошную царицу, изнывающую от неутоленной страсти. Сыграла гротескно, озорно, закусывая губы и закатывая глаза, стонала – получилось очень эффектно и смешно. Элем с братом хохотали.
«Мать киргизского кино»
– Девушка, а вы не ошиблись? Документы на актерское отделение принимают во-о-он за тем столом… А здесь – режиссерское. – По-хозяйски расположившись за столом, над которым торчала табличка «Приемная комиссия», парень в легкомысленной рубашке-разлетайке снисходительно и, как казалось ему, профессионально оценивал внешние данные стоявшей перед ним статной, красивой зеленоглазой девушки с фантастической талией и тонко вылепленным, почти иконописным, евангельским лицом.
– Нет, я не ошиблась, мне именно сюда. Я хочу стать режиссером. – Она отвечала спокойно, уверенно и даже как-то безмятежно, словно чувствуя, что все, что ею задумано, непременно сбудется.
– Ну, хорошо. Давайте ваши документы: аттестат, медицинскую справку… Фотографии принесли?..
– Конечно.
– Собеседование завтра в десять, не опаздывайте.
– Ни за что!
Слава богу, опытным преподавателям ВГИКа сразу удалось обнаружить в провинциальной абитуриентке властную «биологию» таланта будущего режиссера-постановщика.
Еще школьницей, случайно оказавшись рядом с площадкой, где проходили съемки фильма «Овод», она заболела кино. В свои неполные семнадцать Лариса неплохо рисовала, сочиняла стихи, увлекалась классической музыкой, любила слушать и рассказывать забавные истории, прекрасно танцевала, пела – всего понемногу. А голос у нее был такого огромного диапазона, что на одном дыхании она могла спеть «Аве Мария».
Но на вступительных экзаменах, конечно, волновалась ужасно. Однако все страхи как-то сами собой тихо растаяли, когда Александр Петрович Довженко, вовсе не слушая ее ответов на свои вопросы, а просто любуясь девушкой, не сдержавшись, произнес: «Я в вашем лице увидел всю красоту своей родины…»
Потом был творческий конкурс. Довженко предложил абитуриентам написать сочинение на вольную тему «Случай из моей жизни». Сочинение Ларисы Шепитько называлось «Булка». Этот этюд стал ее первым шагом к самой себе, к своему призванию, прелюдией к собственной судьбе.
«Мне девятый год. Я окончила второй класс и теперь свободна. Теперь я гуляю, сколько хочу, и уже никто не зовет меня домой учить уроки. Но моя свобода все же кое-чем ограничена: делами по хозяйству. Ибо мама моя до поздней ночи на работе, а на хозяйстве осталась я. Так и сегодня. Я просыпаюсь, и, как всегда, мамы уже нет дома. Я вскакиваю с постели и бегу к столу, где лежит записка. В ней большими буквами перечислено то, что я должна сделать, что должна есть. Я старательно перечитываю ее несколько раз и снова бегу босиком под одеяло. Я еще хочу спать, но заснуть не могу: в голову лезут всякие мысли. Я стараюсь отогнать их и все же заснуть, но солнечные зайчики уже нашли меня и щекочут лицо. Тогда я одеяло натягиваю на голову, но теперь в уши лезут звуки падающих капель воды из крана в кухне. Кап-кап, кап-кап…
С досадой я вскакиваю с кровати, натягиваю короткое платьице и босиком бегу на кухню умываться. Затем лезу в шкаф за едой и, жуя на ходу, составляю план действий на сегодня. Но, как всегда, осуществить его полностью не удается: как раз в то время, когда я мою посуду, снизу раздается условный свист – меня зовут. Я бросаю тарелку и высовываюсь до половины из окна. Во дворе стоят мальчишки – наша компания… В другом конце грязного, заплесневелого двора, столпившись, стоят девчонки – наши враги. В первую очередь – это мои личные враги, потому что они плаксы и сплетницы, а уж если подерешься – маме обязательно скажут. Впрочем, они мне завидуют, потому что мальчишки меня не бьют и даже пускают играть с собой в футбол. Вот и теперь: «Ларка, айда в футбол. Только скорей!» Я кричу: «Сейчас!», кое-как домываю посуду и, так и не убрав до конца квартиру, закрываю дверь; на перилах съезжаю вниз, успевая показать девчонкам язык, и выбегаю на улицу, где все мальчишки уже в сборе…»
Десяток рукописных страниц были готовой киноновеллой, зримой, выпуклой, живописной, психологически безошибочно точной картиной, по которой даже без камеры оператора уже был ясно виден большой мир глазами маленького человека. Ученическим пером прорисовывались кадры возможной будущей кинокартины.
– Я далеко не уверен, что все вы станете режиссерами, – огорошил своих студентов Довженко на своей первой лекции. Помолчал и добавил: – Но я бы очень хотел, чтобы все вы стали интеллигентными людьми.
Мастер именно любовался Ларисой и всячески опекал ее, тепло и строго, по-отечески. «Заданный им камертон максимализма в отношении к искусству и к самому себе – это то, что каждый из нас старался сохранить, – вспоминала Лариса. – Я тогда не предполагала, как трудно следовать советам учителя на протяжении всей жизни… К нам, его студентам, предъявлялись совершенно определенные требования: во-первых, по части нравственной чистоты и твердости, честных правил морали, во-вторых, каждый из нас должен был обладать способностью к образному мышлению, и наш мастер стремился в этом удостовериться. В-третьих, нам следовало пытливо вглядываться в мир и пытаться понять его в различных проявлениях. Вряд ли надо доказывать, что все это не более как условия отбора учеников, элементарные условия их соответствия будущей профессии, и научить этому нельзя».