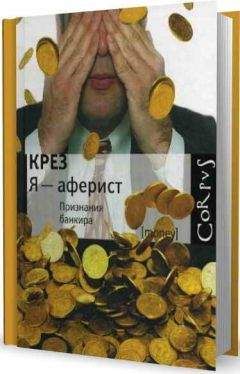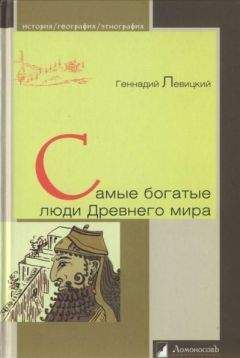Павел Щеголев - Лермонтов: воспоминания, письма, дневники
В мазурке я села рядом с [ней], предупредив Мишеля, что [она все знает] и присутствием [своим] покровительствует нам и что мы можем говорить, не стесняясь ее соседством. [Он] уверял… меня, что дела наши подходят к концу, что недели через две он объявит о нашей свадьбе, что бабушка согласна, — [она] все это слышала и радовалась за меня. А я! О, как слепо я ему верила, когда он клялся, что стал другим человеком, будто перерожденным, верит в Бога, в любовь, в дружбу, что все благородное, все высокое ему доступно и что это чудо совершила любовь моя; — как было не вскружиться моей бедной голове!
На этом бале Л[опу]хин совершенно распрощался со мной, перед отъездом своим в Москву. Я рада была этому отъезду, мне с ним было так неловко и отчасти совестно перед ним; к тому же я воображала, что присутствие его мешает Лермонтову просить моей руки.
На другой день этого бала Мишель принес мне кольцо, которое я храню, как святыню, хотя слова, вырезанные на этом кольце, теперь можно принять за одну только насмешку.[190]
Мне становится невыносимо тяжело писать; я подхожу к перелому всей моей жизни, а до сих пор я с какой-то ребячливостью отталкивала и заглушала все, что мне напоминало об этом ужасном времени.
Один раз, вечером, у нас были гости, играли в карты, я с Лизой и дядей Николаем Сергеевичем сидела в кабинете; она читала, я вышивала, он по обыкновению раскладывал grand patience.[191] Лакей подал мне письмо, полученное по городской почте; я начала его читать и, вероятно, очень изменилась в лице, потому что дядя вырвал его у меня из рук и стал читать его вслух, не понимая ни слова, ни смысла, ни намеков о Л[опу]хине, о Лермонтове, и удивлялся, с какой стати злой аноним так заботится о моей судьбе. Но для меня каждое слово этого рокового письма было пропитано ядом, и сердце мое обливалось кровью. Но что я была принуждена вытерпеть брани, колкостей, унижения, когда гости разъехались, и Марья Васильевна прочла письмо, врученное ей покорным супругом! Я и теперь еще краснею от негодования, припоминая грубые выражения ее гнева.[192]
[Сушкова, стр. 201–203]
Живо сохранился в моем воспоминании пятый акт кратковременного сценического представления самого автора «Маскарада». Частью по его содействию, частью по обстоятельствам, этот пятый акт разыгрался в нашем доме гораздо оригинальнее, чем рассказано в «Воспоминаниях». Лермонтов воспользовался паникой честнейшего семейства консерваторов, к которому принадлежали мои добрые родные.
К новому 1835 году правительство вознамерилось учредить городскую почту. У нас старшими гостями и хозяевами подчас выражались порицания этой мере: чего доброго! — С такими нововведениями к молодым девушкам и женщинам полетят любовные признания, посыплются безыменные пасквили на целые семейства!.. То ли дело заведенный порядок! Войдет в переднюю огромный ливрейный лакей с маленькою записочкой в руках, возгласит четырем-пяти своим собратиям: «От Ольги Николаевны, ответа не нужно», или: «От Глафиры Сергеевны, просят ответа», — и один из заслуженных домочадцев несет писульку к барыне, докладывает ей от кого, часто — и об чем, как будто сам умеет читать, даже по-французски. — Не лучше ли так? Не нравственнее ли? — Вся жизнь барыни и барышень на ладони всякого лакея; каждый из них может присягнуть, что ни за одной из них ни малейшей шероховатой переписки не водится, а почтальон что? Какое ему дело? — Отдал, получил плату — и был таков!
Тревожное раздумье более всего озабочивало тетеньку: это нововведение казалось ей первым насильственным вторжением внешнего мира в свято охраняемый быт семейный. Если Фамусов кряхтел от одной «комиссии», то у Мар[ьи] Вас[ильевны] было их на руках две, и уже стояла на степени кандидатки третья, подрастающая и воспитывающаяся в пансионе упомянутая сиротка. Проведал ли об ее черных думах Михаил Юрьевич или по чутью догадался, что у нас дойти письму в собственные руки барышни так же трудно, как мальчику вскинуть свой мячик до луны?
В первых числах января Л[опухин] уезжал обратно в Москву. В самый день его отъезда, как раз на почине рокового учреждения, не ранее 10-ти часов вечера, зазвенел колокольчик. В те времена он не мог так поздно возвещать посетителей, а разве курьера к одному из дядей, да разве Лермонтова, что-то запавшего в последние дни, — после проводов родственника, он едет мимо, и завидел наши освещенные окна… От самого обеда мы сидели одни-одинехоньки в маленькой гостиной; тетеньке с трудом составилась партия в большой… (Необыкновенная тишина, нелюдность нашего дома в этот день напоминают мне, что то был Крещенский сочельник.) Тоже припоминается теперь, что сестра сильно встрепенулась при звуке колокольчика, проговорила: «Лермонтов!» — и послала меня посмотреть, кто войдет. Дойдя до порога второй гостиной, я увидела, что лакей что-то подал дяде Николаю Сергеевичу, сидевшему возле партнеров, а не с нами, как значится в «Воспоминаниях». (Для вставки его нравоописания и тут переиначена семейная картина.) «Хорошо, зажги свечи в кабинете», — сказал дядя человеку и направился туда. Вскоре партнеры разъехались, мы ждали прихода тетеньки и дядей к нам, как это делалось обыкновенно, но к удивлению нашему слышим, что Ник[олай] Серг[еевич] заперся в своем кабинете с женой и с дядей Н. В. Сушковым. Этого не случалось никогда-никогда, притом так поздно, пора ужинать.
Зовут и нас! — Уж не предложение ли? Мне? Тебе? — Вот правду сказывают: Бог сиротам опекун!..
Мы вошли. На деловом столе дяди лежал мелко исписанный большой почтовый лист бумаги.
Екатерине Александровне подали письмо и конверт, адресованный на ее имя.
— Покорно благодарю! — вымолвила тетенька далеко не умильно и не ласково. — Вот что навлекает на нас ваша ветреность, ваше кокетство!.. Я ли не старалась?.. Вот плоды!!! Стой и ты тут, слушай! И ты туда же пойдешь, — обратилась она ко мне. — Извольте читать и сказать обе, кем и про кого это написано?
Нам стоило бросить взгляд, чтоб узнать руку Лермонтова. Обе мы, в разное время, столько перевидали в Москве лоскутков бумажек с его стихотворными опытами. Мне давала их на прочтение не Александра В[ерещагина], а другая его кузина, Полина В., с которою мы брали танцевальные уроки у Иогеля, в доме ее матери (Екат. Арк. Столыпиной), где я и познакомилась с Лермонтовым, тогда еще московским студентом. Недавние заметки на страницах «L'Atelier d'un Peintre», роман, подаренный мною Ек[атерине] Ал[ександровне] в ее именины, снова ознакомили нас с мало изменившимся почерком поэта.
В один миг Екатерина Александровна придавила мне ногу: «Молчи!» дескать. Я ничего не сказала.