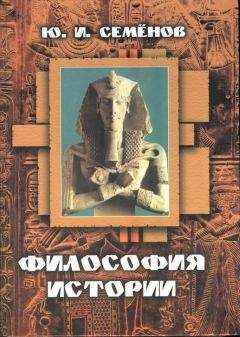Робин Коллингвуд - Идея истории
§ 8. Гегель и Маркс[57]
Историография девятнадцатого столетия не отбросила убеждения Гегеля в духовности истории (это означало бы отбросить саму историю), но скорее поставила своей задачей создать историю конкретного духа, обратив внимание на те его элементы, которыми Гегель пренебрег в своей схематичной «Философии истории», и соединив их в единое прочное целое. Среди его непосредственных учеников Бауэр специализировался на истории христианского учения, Маркс — на истории экономической деятельности, а Ранке{11} позднее систематически применял гегелевскую концепцию исторических движений или периодов, рассматриваемых в качестве объективации доктрин или идей, таких, как, например, протестантизм. Капитализм у Маркса или протестантизм у Ранке оказываются «идеей» в подлинно гегелевском смысле этого слова: мыслью, учением о человеческой жизни, выдвигаемым самим человеком, и поэтому родственны понятию «категория» у Канта. Но здесь категории оказываются исторически обусловленными: они — формы, в которых люди мыслят в определенные времена и в соответствии с которыми организуют всю свою жизнь, организуют только для того, чтобы убедиться а том, что идея благодаря собственной диалектике превратилась в другую, и образ жизни, выражаемый ею, теряет свою цельность, разрушается и преобразуется в выражение второй идеи, заменившей первую.
Марксовская концепция истории отражает как сильные, так и слабые стороны гегелевской: с тем же искусством Маркс проникает в глубь фактов и выявляет логические связи понятий, лежащих в их основе; но и слабости Гегеля отражаются на его взглядах: выбирается один из аспектов человеческой жизни (у Гегеля — политический, у Маркса — экономический), который якобы сам по себе наиболее полно воплощает ее разумность. Маркс, как и Гегель, настаивает на том, что человеческая история не некий набор различных и параллельных историй, историй политики, искусства, экономики, религии и т. д., но одна, единая история. Но опять же, как Гегель, Маркс мыслит это единство не как органическое, в котором каждый элемент процесса развития сохраняет свою непрерывность и вместе с тем тесную связь с другими, а как единство, в котором лишь один непрерывный элемент (у Гегеля — политическая история, у Маркса — экономическая), в то время как другие факторы исторического процесса не имеют такой непрерывности, но, по мнению Маркса, выступают как простые отражения основных экономических фактов. Это приводит Маркса к парадоксальному выводу, из которого следует, например, что наличие определенных философских взглядов у людей объясняется не какими-то философскими основаниями, а только экономическими причинами[58]. Исторические исследования политики, искусства, религии, философии, построенные по этому принципу, не имеют подлинной исторической ценности; они — всего лишь упражнения в изобретательности, при которых, например, важная проблема связи между квакеризмом и банковским капиталом фактически просто снимается, когда говорят, что квакеризм — это образ мыслей банкиров о банковском деле. Однако этот парадокс у Маркса — лишь свидетельство антиисторического натурализма, который во многом отравляет его мышление и яснее всего обнаруживается в отношении Маркса к гегелевской диалектике.
Марксу принадлежит знаменитое и горделивое заявление, что он взял гегелевскую диалектику и «поставил ее на голову»{12}, но эти слова он употребляет не в буквальном смысле. Диалектика Гегеля начинается с мысли, переходит в природу и завершается духом. Маркс не заменил этого порядка на обратный. Его высказывание относится только к двум первым членам отношения, а не к третьему и означает, что если гегелевская диалектика начинается с мысли и переходит к природе, то его собственная диалектика начинается с природы и переходит к мысли.
Маркс не был несведущим человеком в философии, и он ни на минуту не допускал, что первичность мысли по отношению к природе у Гегеля означала, что Гегель считал природу продуктом сознания. Он знал, что Гегель, как и он сам, считал дух произведением (диалектическим произведением) природы. Он знал, что слово «мысль» в том смысле, в котором Гегель называл логику наукой о мысли, означало не мыслящего, а то, о чем он мыслит. Логика для Гегеля — это не наука о том, «как мы мыслим», это наука о платоновских формах, абстрактных сущностях, «идеях», и только такой вывод можно сделать, если мы всерьез примем предупреждение самого Гегеля о том, что мы не должны считать идеи существующими только в головах людей. Это было бы «субъективным идеализмом», учением, вызывавшим у Гегеля отвращение. Идеи оказываются в головах людей, по Гегелю, потому, что люди в состоянии мыслить; но если бы «идеи» не были независимы в своем существовании от мыслящих людей, то не было бы ни людей, ни даже мира природы, потому что эти «идеи» представляют собой логический костяк, который только и делает возможным мир природы и людей, мир немыслящих и мыслящих существ.
Эти «идеи» составляют костяк не только природы, но и истории. Структура истории как совокупности действий, в которых человек выражает свои мысли, обладает некоторыми общими контурами, предопределенными условиями, при которых мыслительная деятельность, дух только и могут существовать. Среди них — два условия: во-первых, дух должен возникнуть в мире природы и продолжать существовать в ней; во-вторых, суть его деятельности должна состоять в познании тех закономерностей, которые скрываются в явлениях природы. В соответствии с этим действия людей в истории как действия, возникающие и продолжающиеся, не могут возникать и продолжаться нигде, кроме как в природной среде; но их «содержание», т. е. то, что конкретно люди думают, и то, что они конкретно делают для выражения своих мыслей, определяется не природой, а «идеями», необходимостями, исследуемыми логикой. Таким образом, логика становится ключом истории в том смысле, что мысли и действия людей, изучаемые историей, следуют некоей модели, представляющей собой многокрасочный вариант той модели, которая в своем черно-белом виде уже была задана логикой.
Именно об этом и думал Маркс, когда говорил, что перевернул гегелевскую диалектику. Высказывая это положение, он имел в виду историю, — может быть, единственное, чем он сильно интересовался. И смысл его замечания состоял в том, что, в то время как для Гегеля логика, предшествуя природе, определяла модель, по которой действовала история, а природа являлась лишь той средой, в которой происходило историческое действие, для самого Маркса природа была чем-то большим, чем фоном истории, она выступала у него источником, из которого извлекалась модель исторического действия. Бесполезно, считал он, выводить исторические закономерности из логики, как, например, знаменитую гегелевскую закономерность трех ступеней свободы: «В восточном мире свободен один, в греко-римском мире — некоторые, в современном мире — все». Лучше выводить закономерности из мира природы, как сделал сам Маркс с его не менее прославленной последовательностью: «первобытный коммунизм, капитализм, социализм», — когда значение терминов, по его собственному признанию, выводится не из «идеи», а из естественных фактов.