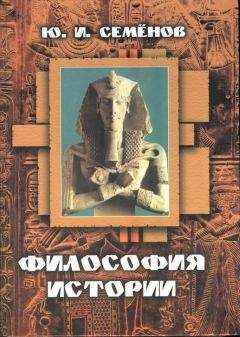Робин Коллингвуд - Идея истории
Пятым положением, за которое Гегель подвергся ожесточенным нападкам, была его доктрина, согласно которой история завершается в настоящем, а не в будущем. Например, очень способный и сочувствующий Гегелю швейцарский историк Эдуард Фейтер говорит[56*], что философия истории, которая прослеживает ход человеческой жизни от ее начала до Страшного суда, как это делали историки средневековья, — предмет вполне достойный и внушающий уважение. Гегелевская же философия истории, которая завершает историю не Страшным судом, а настоящим временем, лишь идеализирует и прославляет настоящее, отрицая возможность всякого дальнейшего прогресса, давая псевдофилософское обоснование политике тупого и невежественного консерватизма.
Но и здесь Гегель, как и Фихте, безусловно, прав. Философия истории, как он ее понимает, это сама философски осмысленная история, т. е. история, рассмотренная изнутри. Но историк ничего не знает о будущем; на основе каких документов, каких свидетельств он установит факты, которые еще не произошли? И чем более философски он будет смотреть на историю, тем с большей ясностью он осознает, что будущее остается и всегда должно оставаться закрытой книгой для него. История должна кончаться настоящим, потому что ничего больше не произошло. Но это положение отнюдь не означает прославления настоящего или убеждения, что дальнейший прогресс невозможен. Оно означает только признание настоящего за факт и понимание того, что мы не знаем, в чем будет состоять дальнейший прогресс. Как это сформулировал Гегель, будущее — предмет не знания, а надежд и страхов. Но надежды и страхи лежат вне истории. Если Гегель в последние годы своей жизни в области практической политики был непросвещенным консерватором, то это вина Гегеля как человека, и нет никаких причин вменять это в вину его философии истории.
Но, хотя по всем этим вопросам Гегель и кажется правым в споре со своими критиками, все же его «Философию истории», сколь величественна она ни была бы, невозможно читать, не испытывая ощущения, что в ней содержатся серьезные ошибки. Я имею в виду здесь не просто незнание Гегелем многих исторических фактов, которые были открыты уже после его времени, а нечто более глубокое, заложенное в самом методе и структуре его труда. Как отметили многие исследователи, обращает на себя внимание прежде всего тот факт, что как историк Гегель достигает самых больших вершин в своих лекциях по истории философии, которые оказываются подлинным триумфом исторического метода и образцом для всех последующих работ в области истории мысли. Это значит, что его метод, основанный на принципе, что вся история — история мысли, был не только законен, но и приводил к блестящим результатам только тогда, когда предметом исследования была мысль в ее наиболее чистой форме, т. е. философская мысль. Но не она являлась предметом его «Философии истории».
Сам Гегель считал, что существует много видов мысли и что они отличаются по степени более или менее совершенного выражения в них духовности. На самой низшей ступени у него стоит то, что он называет субъективным духом, тот тип мышления, которым занимаются психологи. Здесь душевная жизнь оказывается едва ли большим, чем осознанием живым организмом своих собственных ощущений. На следующей, более высокой ступени возникает то, что он называет объективным духом, когда мысль выражает себя во внешних проявлениях — в виде социальных и политических систем. И наконец, на верхней ступени развития появляется абсолютный дух в трех его формах — искусства, религии и философии. Они выходят за границы сфер социальной и политической жизни и преодолевают противоположность между субъектом и объектом, мыслителем и социальным институтом или правом, которые он находит уже существующими и которым вынужден подчиняться. Произведение искусства, религиозное верование, философская система совершенно свободны и в то же самое время они объективное выражение духа, их породившего.
Но в «Философии истории» Гегель ограничивает поле своего исследования политической историей. Здесь он следует за Кантом, однако у того было веское основание для такого ограничения, основание, которое отсутствует у Гегеля. Исходя из своего разграничения между феноменами и вещами в себе, Кант, как мы уже видели, считал исторические события феноменами, событиями во временной последовательности, а историка — их наблюдателем. Человеческие действия, рассматриваемые как вещи в себе, с его точки зрения, являются нравственными действиями. Но те же самые действия, которые, по Канту, как вещи в себе являются нравственными действиями, как феномены выступают в качестве политических действий. История поэтому может и должна быть только историей политики. Гегель, отвергая кантовское разграничение между феноменами и вещами в себе, отвергает тем самым и кантовскую доктрину, согласно которой всякая история — политическая история и тезис, что история — это своего рода зрелище. Поэтому центральное положение, занимаемое государством в его «Философии истории», оказывается анахронизмом. Для того чтобы быть логически последовательным, Гегелю следовало бы объявить задачей истории не столько изучение процесса развития объективного духа, сколько изучение истории абсолютного духа, т. е. искусства, религии и философии. И действительно, почти половина произведений Гегеля посвящена исследованию этих трех предметов. «Философия истории» — алогичный нарост на корпусе гегелевских работ. Законным плодом его революции в области исторического метода в той мере, в какой его можно обнаружить в работах самого Гегеля, являются восемь томов его сочинений, названных «Эстетикой», «Философией религии» и «Историей философии».
Распространенная критика Гегеля поэтому ошибочна. Она начинает с утверждения, что его философия истории кое в чем неудовлетворительна (чего нельзя не признать), но продолжает: «Вот что получается, если подходить к истории как к духовной истории. Отсюда следует, что предмет истории — не развивающаяся человеческая мысль, а только „грубые факты“». Правильная критика звучала бы так: «Вот что получается, когда политическую историю рассматривают саму по себе, как если бы она заключала в себе всю историю. Из этого вытекает, что политическое развитие должно мыслиться историком в тесной связи с экономическим, художественным, религиозным и философским развитием, и лишь история человека во всей его конкретной действительности может удовлетворить историка». Фактически, по-видимому, именно влияние критики второго типа осознанно или неосознанно испытали некоторые историки девятнадцатого века.