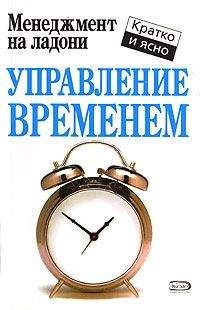Наталья Решетовская - В споре со временем
Александр Исаевич стремился читать лишь то, что считалось литературными образцами.
Переехав в Рязань, муж дал оценку всем книгам моей, тогда весьма скромной, библиотеки. В результате был составлен план «Исчерпания библиотеки».
В 1-ю очередь «Исчерпания» попали, например, «Былое и думы» (перечитывались!) Герцена, «Записки из мёртвого дома» Достоевского, Пришвин, Грин, Хемингуэй, Олдингтон.
Во 2-ю — «Анна Каренина» (перечитывалась!), Паустовский, «Идиот» Достоевского.
В 3-ю — «Толстой в воспоминаниях современников», Монтескьё, Вольтер, Свифт, Руссо и пр.
При чтении отдельных рассказов и особенно стихов Александр Исаевич любил ставить им оценки, начиная от точки. Потом шёл плюс и, наконец, восклицательные знаки вплоть до трёх, которых, например, удостоилось стихотворение «Silentium» Тютчева.
Читая иностранную литературу, Александр Исаевич очень сожалел, что не мог оценить в полной мере того, что было для него так важно — язык писателя! Недаром тот единственный писатель, которому он как-то позавидовал и сказал мне об этом, был русский. Это был Владимир Набоков, оторванный от родины. Солженицын говорил, что ему нравятся его находчивость в метафорах, виртуозность в обращении с языком.
С момента переселения Александра в Рязань на покупку мною книг был наложен запрет. Чтобы покупать книгу, совершенно недостаточно, чтобы она нравилась или чтобы просто хотелось её прочесть. Зачем?.. Такую книгу можно взять в библиотеке. И муж действительно записывается и в городскую, и в областную библиотеки, и в библиотеку Дома офицеров.
Дома же надо иметь то, что необходимо, то, что может понадобиться и сегодня, и завтра, и через месяц, и через пару лет… Прежде всего, следовательно, нужно пополнить собрания классиков! И мы или купили сразу, или подписались на целый ряд изданий. Среди них были собрания сочинений Чехова, Куприна, Паустовского, Пришвина, Анатоля Франса, (Впрочем, во Франсе Александр Исаевич быстро разочаровался.)
Мой муж читал каждую книгу долго. Львиная доля его свободного времени отдавалась творчеству, а кроме того, он считал совершенно необходимым регулярно, в идеале каждодневно, заниматься Далем. Он говорил, что ему нужно создать в себе внутреннюю атмосферу русского языка, проникнуться его духом.
Мне кажется, что в стремлении Александра Исаевича к точности слова много от математика. Математичность, может быть, даже педантичность неотделимые компоненты его творчества!
Он помечал на полях «новые слова» и поговорки и не позволял себе превышать некоего установленного им лимита на страницу.
Даже в подборе имён и фамилий был полный порядок, никакого хаоса. Всё очень продуманно и организованно, всё фиксировалось, чтобы имена не повторялись слишком часто.
Много фамилий приносила ему я из института. Некоторые брались мужем на заметку, а позже иногда выплывали в его произведениях. Так случилось, например, с фамилией «Шкуропа-тенко», которую получил один из зэков в «Иване Денисовиче». Несколько лет спустя я узнала, какое волнение это невольно вызвало в семье моего бывшего студента, дед которого в своё время тоже пострадал.
Как-то одна моя сотрудница дала мне прочесть редкостную книгу, выпушенную в 1904 г. к столетию рязанской мужской гимназии. Из длинного перечня выпускников Александр Исаевич выписал заинтересовавшие его фамилии. Полагаю, что фамилии учащихся бывшей мужской рязанской гимназии будут фигурировать на страницах будущих романов Солженицына. Варсонофьев, Ободовский уже действуют в «Августе Четырнадцатого». А немецкую фамилию Гангарт получила в «Раковом корпусе» доктор Вера Корнильевна — Вега. Любопытно, что, изучая списки выпускников, Александр не обратил внимания на страницу из классного журнала 1805 года, на которой значился ученик 2 класса Яков Солженицын. Поскольку этому второкласснику было уже 14 лет, не приходится удивляться, что его фамилия отсутствовала в числе выпускников.
К далевскому словарю, уже в Рязани, у Александра Исаевича прибавился ещё словарь пословиц, составленный тем же Далем. И тут — чтение, разметка, выписывание, перекласси-фикация. Часть этой работы мы с ним делали вместе. После соответствующей разметки, я перепечатывала пословицы на машинке. В будущем мой муж мечтал иметь дома вазу, наполненную карточками с нанесёнными на них пословицами, лучшими из лучших, чтобы их наугад вынимать, перебирать…
Что касается литературных вкусов и оценок, то у Александра Исаевича они постоянно претерпевали очень большие изменения. Студент Солженицын был влюблён в Джека Лондона. Солженицын-фронтовик величайшим писателем почитал Горького. Позже, надолго — Толстого.
Отношение Солженицына к писателям редко бывает устойчивым. В одних он разочаровывается, другими, напротив, вдруг неожиданно увлекается.
Мне в голову невольно приходит параллель со склонностью Александра Исаевича составлять мнение о человеке при первом же знакомстве. Это первое впечатление играло всегда большую роль в его жизни. Это — как бы стремление возможно скорее сделать вывод! Напрячь все силы ума, всю свою наблюдательность, но чтобы вывод был сделан незамедлительно! Может быть, это тоже из-за бережения времени? В жизни (во всём остальном, кроме писательства) только бы скорей! И он подчас из единичного факта готов делать уже обобщение! Если подойти с точки зрения диалектики, то он часто опускает в жизни то звено, которое должно следовать в процессе познания за «единичным» — так называемое «особенное». От единичного через особенное ко всеобщему! А у Солженицына бывает и так: от единичного ко всеобщему! А бывает, что даже дезинформацию готов принять за информацию, только бы не тратить времени на то, чтоб проверять!.. В нашем с ним конфликте было много такого…
Напротив, если время затрачено, — это должно быть оправдано! Письмо написано — нельзя не послать! Никогда не должно быть времени, потраченного зря! А какие будут последствия — это дело третьестепенное.
Перестали Солженицыну нравиться Франс, Куприн, Паустовский.
Он посчитал вдруг Куприна в основе писателем «слабым и мелкотемным». А предвидя возражения, даже попытался объяснить литературные явления математическим образом: «Гранатовый браслет» и «Суламифь», отчасти «Поединок» — исключения, просто «по теории вероятности среди такого множества попыток должны были быть и удачи».
При своей склонности к преувеличениям Александр Исаевич не замечает даже, что по этой «теории» у любого графомана могут быть шедевры.
Постепенно муж остывает к Паустовскому, которого очень любил. И даже начинает обвинять его в том, что он «не нашёл своей темы — в эпоху, в которую нельзя было не найти своей темы».