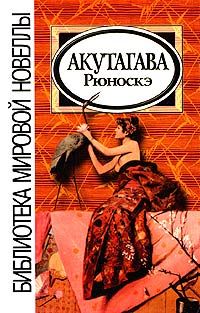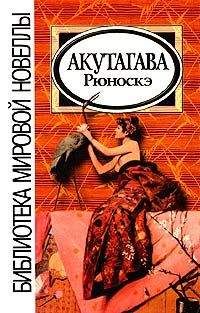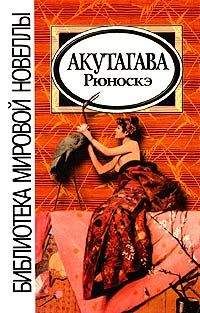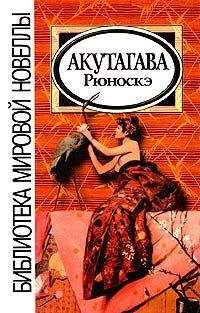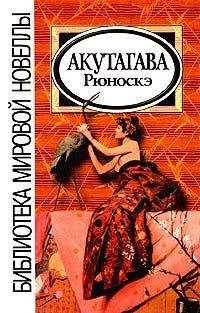Чтоб услыхал хоть один человек - Акутагава Рюноскэ
В Токио весна в полном разгаре. Вот уже совсем скоро спокойная и в то же время не знающая отдыха сила заставит петь в вечном небе жаворонков. Всё течёт. Всё кончается там, где должно кончиться. Теперь я снова хожу в университет. Снова читаю «Ивана Ильича».
Только мне безмерно грустно.
9 марта 1915 года, Табата
Существует ли любовь, свободная от эгоизма? Когда любовь заражена эгоизмом, невозможно преодолеть преграду, стоящую между людьми. Невозможно излечиться от одиночества, житейских невзгод, обрушивающихся на человека. Если не существует любви, свободной от эгоизма, то нет ничего горше жизни человека.
Все окружающие безобразны. И сам я безобразен. Горько жить, когда такое у тебя перед глазами. А человек вынужден жить, глядя на это. Если всё это дело рук бога, то это дело – злая насмешка.
Я сомневаюсь, что существует любовь, свободная от эгоизма. (В отношении себя тоже.) Иногда я думаю, что это невыносимо. Иногда я думаю, что обречён жить так всегда. И наконец, я думаю, что отомстить богу – значит потерять свою жизнь.
Я не знаю, что мне делать.
Возможно, тебя это не волнует, возможно, ты думаешь, что мои слова – пустая болтовня. (Ну что ж, думай так.) Но во мне существует нечто, заставляющее меня идти вперёд, не избегая того, что меня окружает. Это нечто приказывает мне: смотри на безобразие всех – и окружающих, и своё собственное. Я, естественно, боюсь смерти. И хотя знаю, что умру, всё равно не могу не прислушаться к голосу этого нечто.
Ежедневно случается что-нибудь неприятное. Я всё время с кем-то ссорюсь. Ни с кем не могу спокойно разговаривать. От этого мне невыразимо грустно. Иногда я становлюсь до глупости сентиментальным. Думаю поехать куда-нибудь попутешествовать. Почему-то ни с кем не хочется встречаться. Очень грустно.
Рю
1915 год, Табата
Я боялся hunger [174], принявшего форму любви. Потом боялся взаимных духовных и физических перемен в период (он был достаточно долог – по меньшей мере три года) до женитьбы. Наконец, я боялся, что моей любовью будет двигать холодный расчёт.
Однако время уничтожило эти мои страхи, и я теперь могу испытывать любовь, лишённую всякой сентиментальности. Я не могу забыть, как, просыпаясь по утрам, думал о людях с чувством, похожим на ностальгию. Я не могу забыть, как в одиночестве читал свои собственные письма, написанные неизвестно кому, заведомо зная, что их никто не прочтёт.
Тихо и печально я смотрю на окружающих и на себя. Я снова равнодушен ко всем событиям, которые не касаются меня лично. Я и тот человек навсегда станем посторонними. Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы случай по своей прихоти не столкнул нас. Но я боюсь такого случая. Мне остаётся лишь положиться на судьбу.
У меня такое чувство, будто спала пелена и я в новом свете увидел всё, что окружает меня. К несчастью, в открывшейся передо мной новой стране всё безобразно.
Я благословляю это безобразное. Благодаря существованию безобразного я смог лучше узнать прекрасное, что есть во мне, что есть в людях. Мало того, я смог лучше узнать и то безобразное, что есть и во мне, и в людях.
Я хочу вырасти таким, как есть. Я хочу возмужать таким, как есть. Я хочу превратить своё тщеславие, своё вожделение, свой эгоизм в нечто высокое, что послужит мне оправданием. Любовью, даже если сам не любим, я постараюсь утешить горечь бытия.
В последние несколько дней я погрузился в безрадостное состояние, хотя chaos [175] как будто остался позади, всё вокруг успокоилось. Я хочу от души посмеяться над глупыми, комичными дутыми авторитетами. Но прежде чем посмеяться, мне хочется посочувствовать им. Может быть, на всё в этом мире нужно смотреть плача и смеясь.
Окружённый теми, кто любит меня, теми, кто ненавидит меня, я окончу университет, найду своё место в жизни, а потом умру. В этом нет ничего печального, ничего радостного. Но до самой смерти видеть убаюкивающие сны невыносимо. Однако ещё невыносимее не возжечь огонь, достойный человека. Мне хочется до конца своих дней быть на вершине humanity [176].
Письмо получилось несвязным. Недавно я стал обнаруживать в себе светлые перемены. Но я чувствую, что какой-то уголок моего жалкого сердца стал sharp [177]. Ежедневно хожу в университет, точно в пустыню, и это грустно. Грустно, но всё равно я ещё очень заносчив.
Рю
1915 год, Табата
Был простужен и чувствовал себя отвратительно. А когда поправился, неожиданно нашлись затерявшиеся во время переезда короткий и деревянный мечи; я в одной рубахе пошёл за ними в наш старый дом. И снова простудился, горло болит. Поэтому сделать перевод «Арабских ночей», видимо, не смогу. Может, возьмёшься ты вместо меня? У меня температура, и я лежу в постели.
Акутагава-сэй
13 мая 1915 года, Табата
У меня жар, и я лежу в постели. Я решил ответить тебе, как только поправлюсь, но, кажется, это произойдёт нескоро, поэтому пишу тебе. Пишу лёжа, поэтому письмо моё будет коротким. Начал даже думать, не лёгкие ли это, и очень забеспокоился. К экзаменам не готовлюсь, будь что будет. Мне очень грустно. (…)
Рю
23 мая 1915 года, Табата
Я был довольно серьёзно болен и всё ещё хожу к врачу. Но как бы то ни было, экзамен приближается, а ведь это так ужасно – запомнить хотя бы библиографию произведений Диккенса, в которой я слаб: там столько дат и всяких прочих сведений. Насколько легче библиография произведений какого-нибудь Шеридана или Фута. В общем, с библиографией дело у меня плохо. Кроме того, нужно запомнить словоупотребление. Ведь это же форменное бедствие, если придётся отвечать на такой, к примеру, вопрос: «Не помните ли вы, когда his [178] употребляется в значении my [179]? И далее, сколько раз в каких актах каких пьес пользовался этим правилом Шекспир?»
Недавно прочёл роман Льюиса «The Monk» [180]. Эта книга была впервые издана в 1798 году и в более или менее полном виде ни разу как будто не переиздавалась. Она интересна своей старомодностью, своей старинностью.
Сцены сатанинских козней демонических сил, появления Люцифера происходят в Испании, главным образом в монастыре. Наконец, монах по имени Амброзио, вырвавшись из темницы, куда его заточил церковный суд, вместе с Люцифером улетает. Но в конце концов Люцифер убивает монаха, и душа его исчезает в вечности. Автор заканчивает поучением: «Ladies [181], отпущение человеку грехов услаждает, осуждение человека в грехах ожесточает, но и то и другое – благо». Весьма интересен факт, о котором говорила Радклиф, – о генеалогической связи Льюиса и По через Мэтьюрина и Мери Шелли. Сейчас я читаю «Франкенштейна» Мери Шелли.
Недавно я стал ревностным читателем «Every Man’s Library» [182]. С большим интересом прочёл Бальзака. С некоторым интересом – «Монастырь и очаг» Рида.
Недавно, когда я подумал, что у меня неладно с лёгкими, прохожие на улице, все до одного, виделись мне туберкулёзными больными. Думал, почему они не бегут к врачу, чтобы тот осмотрел их. Людей, харкающих на улице, я воспринимал как грязных животных, чуть ли не государственных преступников. А теперь все, с кем я встречаюсь, представляются мне людьми, пышущими здоровьем, и я сам иногда позволяю себе харкать на улице.