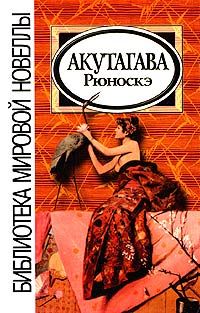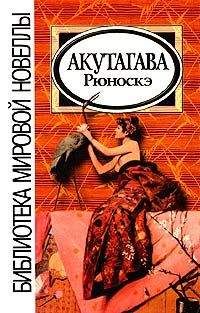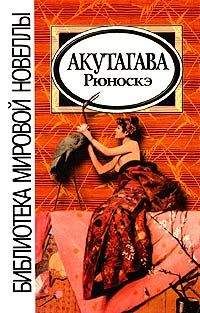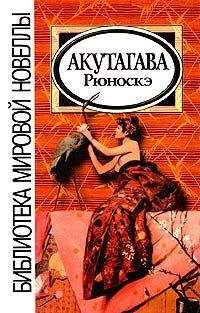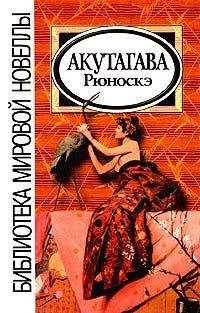Чтоб услыхал хоть один человек - Акутагава Рюноскэ
Начался сезон. Много концертов, художественных выставок. На состоявшемся на днях концерте современной музыки слушал футуристов. Такую музыку я тоже могу писать. На выставке картин интересны полотна, представленные Академией изящных искусств и группой «Никакай» [169]. Картины, выставленные «Бунтэн» [170], не интересны. Меня восхитила «Камелия» Умэхары Рюдзабуро, выставленная «Никакай». Думаю, было бы хорошо организовать персональную выставку этого художника. Среди картин, представленных Академией, хороша «Молитва о родах» Ясуды Юкихико. Интересен и свиток «Жаркие страны» Имамуры Сако… Меня удивило, что Мицуя Кокусиро стал постимпрессионистом. Но не только его картины – все картины в европейском стиле, выставленные «Бунтэн», несут на себе следы влияния постимпрессионистов.
Я уже писал, что некоторый интерес представляла и отборочная выставка. Стал гораздо интереснее Кимура Сохати. Интересно также и то, что Рюсэй Кисида пытался заимствовать цвет и линию у Боттичелли и Сегантини. Но есть и другой художник – он в такой же манере написал дурацкую картину, копирующую «Мону Лизу».
В следующее воскресенье состоится концерт в филармонии. Из-за того, что идёт война, там обязательно будут исполнять что-нибудь наподобие песни о падении Циндао [171], и это ужасно противно. Кстати, в день падения Циндао мы пошли на вечер английского языка, в университет Кэйо. Юнкер [172] пришёл вместе с женой в круглой, как дзабутон, шляпке. Было немного жалко смотреть, с каким лицом слушал он доклад, в котором говорилось, например: «Наконец мы дали достойный отпор проискам германского империализма», «германский милитаризм разбит».
Мне кажется, в последнее время я стал всё больше отдаляться от людей. Почти ни с кем не хочется встречаться. Временами мне бывает очень скучно, но ничего не поделаешь. Более того, мой интерес стали привлекать люди, стоящие на противоположных позициях. Меня заинтересовали, например, писатели, обладающие силой, пусть даже грубой. Сам не могу понять почему. Но, только читая их, я освобождаюсь от грусти. Я стал большим пуританином, чем во время учёбы в колледже.
Я пишу тебе об этом потому, что в прошлом твоём письме говорилось о живописи. Так вот, и на картины мой вкус изменился тоже. Может быть, тебе это покажется странным, но, по правде говоря, в последнее время я, кажется, по-настоящему понял картины Ван Гога. И это представляется мне настоящим пониманием всей живописи. Осмелюсь даже сказать, что, может быть, это настоящее понимание всего искусства.
Я пишу об этом слишком коротко, и ты, конечно, не поймёшь, что я имею в виду, но слова, как мне кажется, лишь затемняют смысл, и поэтому я ограничиваюсь сказанным, надеясь, что ты со мной согласишься.
Так или иначе, мой внутренний мир несколько изменился. И поэтому я чувствую себя скованным. Искусство, исповедующее принципы, отличные от моих собственных, представляется мне еретическим. Те, кто создаёт подобного рода произведения, кажутся мне круглыми дураками. Многих деятелей искусств я считаю искусными ремесленниками – не более того. Ты можешь подумать, что я, как мальчишка, задираю нос, но я действительно так думаю, поэтому не нужно насмехаться надо мной. К тому же я не стараюсь представить себя гением – можешь за меня не беспокоиться. Чувствуя себя скованным, я всё время внутренне напряжён. А будучи напряжён, в любую минуту готов затеять ссору – это никуда не годится. Своим поведением оскорблять чувства людей – отвратительно, но в последнее время я непроизвольно поступаю именно так, что меня очень огорчает.
Хотел бы съездить к тебе в Киото, пока ты там. Если мы встретимся в минуту, когда у меня будет желание задирать нос, ты, возможно, возмутишься. Правда, сколько бы я ни задирал нос, не нужно думать, что у меня всё в порядке. Люди слишком слабы и легкомысленны – это очень огорчительно. Но ещё огорчительнее то, что я вхожу в число этих людей и даже могу легко стать ещё хуже, чем они. Но всё же надеюсь, что ты не будешь так уж сильно возмущаться, и поэтому все-таки хочу поехать к тебе. В сущности, плохо, что ты уехал в Киото. Я очень хочу встретиться с тобой и буду очень огорчён, если мне это не удастся. В письмах всего не расскажешь (хотя я и пытаюсь поведать тебе всю правду, какой бы горькой она ни была для меня, но тебе мои рассуждения могут показаться ложью), а до тебя так далеко, это ужасно. (…)
«Синситё» все-таки закрылся. А вот когда он издавался, мы могли быстро печатать в нём свои произведения.
Мне недавно захотелось заново перечитать всё прочитанное до сих пор. У меня чувство, что раньше я читал, ничего не понимая.
Мир полон отвратительных людей. Все они стремятся утвердить себя – это омерзительно. Когда человек выражает себя, вопрос самооценки, видимо, не ставится. Ван Гог говорил: «Я хочу показать людям то, что во мне есть», но не говорил: «Показать то безобразное, что во мне есть». (…)
1915
28 февраля 1915 года, Табата
Я давно знал одну женщину. Неожиданно мне стало известно, что она помолвлена. И тогда я впервые почувствовал, что люблю её. Но я совсем не знал, что представляет собой человек, с кем она помолвлена. Не знал также, хотя у меня и были некоторые предположения относительно чувств, которые она питает ко мне. Теперь я обо всем этом кое-что узнал. Кроме того, я узнал, что переговоры о помолвке носят ещё самый предварительный характер.
Я решил сделать ей предложение. И чтобы узнать о её намерениях, договорился встретиться с ней. Однако письмо, которое она отправила мне, из-за плохой работы почты бросили в ящик у ворот, и я опоздал и не смог встретиться с ней. Но одно то, что она отправила мне письмо, укрепило мою решимость.
Я рассказал обо всем своим домашним, но встретил решительный протест. Тётя проплакала всю ночь. Я тоже всю ночь плакал. Наутро я хмуро заявил, что отказываюсь от женитьбы. Потянулись грустные, горькие дни. Я написал этой женщине письмо. Ответа не получил. Примерно через неделю я встретил её в одном доме. Она обменялась со мной несколькими ничего не значащими словами. В какой-то момент, когда глаза наши встретились, я увидел, как она поджала губы и углы рта у неё напряглись. Она ушла раньше всех. Позже, когда я разговаривал с хозяином дома, его женой и матерью, зашёл разговор об этой женщине. Упомянув мать женщины, жена хозяина назвала её «ваша тётя». Значит, мы с ней – двоюродные брат и сестра.
Я питал пустые надежды и теперь вернулся к реальности. Некоторое время не ходил на занятия. Забросил «Ивана Ильича», которого начал читать. Это было как раз время, когда благодаря Роллану [173] мне открылась бесконечная глубина Толстого. Мне было очень грустно. Дней через пять я пошёл в тот же дом, чтобы поблагодарить за приглашение. Там я узнал, что у той женщины нервное расстройство. У неё бессонница и она спит лишь часа два в ночь. На старой гравюре на шелку, которую я преподнёс жене хозяина, было изображено лицо, очень похожее на лицо той женщины. Жена хозяина сказала, что лицо очень приятное. Глаза, сказала она, похожи на чьи-то, но она никак не может вспомнить на чьи. Я рассмеялся. Но всё равно мне было грустно.
Примерно через две недели от женщины пришло письмо. В нём она писала только, что желает мне счастья. С тех пор я не встречаюсь ни с ней, ни с её матерью. Что стало с её помолвкой, тоже не знаю. Меня позвал к себе в Сибу дядя и отругал, сказав, что у этой женщины дурная репутация.
Потянулись горестные дни. Скопилось много писем, на которые я не ответил. Это первое, которое я пишу после того, что произошло. Я подумал, какое было бы счастье, если бы я мог без отвращения читать какой-нибудь увлекательный роман.