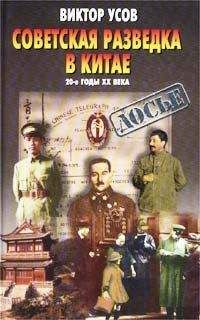Людмила Бояджиева - Гумилев и другие мужчины «дикой девочки»
— А разговор у меня вот какой. — Анна достала блокнот, вырвала из него листок. — Передай ему, когда встретитесь, он же к тебе еще зайдет на меня жаловаться…
Валя прочла:
Твой белый дом и тихий сад оставлю.
Да будет жизнь пустынна и светла.
Тебя, тебя в моих стихах прославлю,
Как женщина прославить не могла.
И ты подругу помнишь дорогую
В тобою созданном для глаз ее раю,
А я товаром редкостным торгую —
Твою любовь и нежность продаю.
— Уф… Так печально… — Валя засомневалась. — Это правда Николаю написано?
Губы Анны тронула улыбка:
— А кому же? Я читаю на вечерах его стихи, которые он посвящал мне, — это, во-первых, мне самой лестно, во-вторых, и ему известность не помешает. — Она прищурила глаза от дыма. — Особенно все «Жирафа» просят…
— Я тоже его страшно люблю! — согласилась Валя. — Когда грустно, сама себе вслух читаю. — Она с выражением продекламировала:
Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далёко, далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.
Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.
Вдали он подобен цветным парусам корабля,
И бег его плавен, как радостный птичий полет.
Я знаю, что много чудесного видит земля,
Когда на закате он прячется в мраморный грот.
Я знаю веселые сказки таинственных стран
Про черную деву, про страсть молодого вождя,
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.
И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав?..
Ты плачешь? Послушай… далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.
Анна открыла вино, наполнила бокалы:
— Давай, Валя, птица моя, за него! Хороший поэт. Пока я спала, оставил на моей тумбочке листок. Это после вчерашней ссоры. Прямо святой:
Когда, изнемогши от муки,
Я больше ее не люблю,
Какие-то бледные руки
Ложатся на душу мою.
И чьи-то печальные очи
Зовут меня тихо назад,
Во мраке остынувшей ночи
Нездешней мольбою горят.
И снова, рыдая от муки,
Проклявши свое бытие,
Целую я бледные руки
И тихие очи ее.
— Господи, бедный Коленька! Анька, ты и впрямь каменная. Муж такие стихи в постель приносит! Ну, прости его, прости! Сама ведь тоже не святая.
— Наивная, он не для меня пишет, а для демонстрации на сборищах своего «Цеха поэтов». У меня впечатление, что он для них и пишет… — Анна снова закурила. — Скажи, ты как думаешь, он меня когда-то любил?
— Ох, если мой Срезневский говорит, что любит, — я понимаю, как это. А когда у тебя или у Гумилева такие фантазии появляются, извини, тут без пол-литра не разберешь. Давай выпьем за понимание между полами! — Валя разлила вино.
— Знаешь, что я тебе скажу, хотя и не «ведьма из города змиева»… — Анна отпила, помедлила, раскачивая в хрустале гранатовую жидкость. — Замороченный он, и чувства у него замороченные. Ну где еще найдешь такого полоумного гения? Спрашивается, что ему дались эти туземцы и жирафы? Ведь он Поэт! Понимаешь — настоящий, совершенно особенный — штучный.
— «…Или, бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет так, что сыпется золото с кружев, с розоватых брабантских манжет» — ведь красота какая и порыв! — Валя вскочила, изобразив движение описанного Гумилевым отважного капитана. — Он у тебя — такой! Все Васко де Гаммы, Куки и Колумбы вместе взятые. Под наркозом морских глубин и приключений! Но еще и призвание — нам, сидням и домоседкам, романтику странствий перелить из сердца в сердце.
— Только я здесь совсем ни при чем! Я — понимаешь? Я! Не моя это романтика. И стать его Евой я не могу!
— Да… Нашла коса на камень… — Валя погладила узоры на скатерти. — Он, думаю, крупно промахнулся. Вбил себе в голову, что именно ты ему и нужна! Именно тебя он добивался столько лет!
— Видишь ли — «невинную грешницу» нашел! — Анна усмехнулась. — Все они хотят шлюху по-монастырски. А кроме того — рабыню льстивую. Чтобы дома сидела с котлетами и детьми да ему дифирамбы пела.
— Гумилев от женщины подзаряжаться должен. Он же у тебя совершенно сумасшедший — покой ему даже не снится!
— Не женщина ему нужна, а эликсир жизни и одновременно мука, незаживающая рана и колдовское варево. Короче, Африка со всеми ее страстями. — Анна прищурилась и проговорила тихо, словно боясь, что некая темная сила их подслушает: — Смертельными страстями!
— Точно! — Валя придвинулась к подруге, прошептала: — Он же всю жизнь проходил смертельно тобой раненный! Сколько раз пытался вытащить отравленное жало, а без него — тоска и серость — плоская жизнь! И снова к тебе рвался. За своей порцией яда. Вот такой травматический романтизм.
— Может, кому-то эта история в кайф — ну, финтифлюшке его театральной. А мне своих заморочек хватает. У меня свой романтизм — не травматический. Твой муж психов лечит. Это тоже романтика. Думаю, с его пациентами покруче, чем в дебрях Амазонки. Но от тебя он ждет борща, а не ядовитых укусов.
— Так Вяч Вяч только из Пушкина три стиха наизусть знает! Ты хоть сейчас пойми, что такое ГУ-МИ-ЛЕВ!
— Пойму, когда помудрею.
— А у него счастья не будет больше ни с одной бабой — вот тебе мое пророчество. — Валя осушила рюмку и отвернулась. Чтобы не показывать слез.
Валя оказалась права. Женившись вторично меньше чем через год после развода с Ахматовой, Гумилев отправил юную жену к своей маме, которая к тому времени поселилась с внуком Левушкой в Бежецке, городе вьюжном и вовсе не наполненном светскими развлечениями. Отправил и забыл. И жить ему оставалось недолго…
На вечерах поэзии Ахматова читала его стихи:
…Я молод был, был жаден и уверен,
Но Дух Земли молчал, высокомерен,
И умерли слепящие мечты,
Как умирают птицы и цветы.
Теперь мой голос медлен и размерен,
Я знаю, жизнь не удалась…
(….)
Сказала ты, задумчивая, строго:
«Я верила, любила слишком много,
А ухожу, не веря, не любя,
И пред лицом Всевидящего Бога,
Быть может, самое себя губя,
Навек я отрекаюсь от тебя».
Твоих волос не смел поцеловать я,
Ни даже сжать холодных тонких рук,
Я сам себе был гадок, как паук,
Меня пугал и ранил каждый звук.
И ты ушла, в простом и темном платье,
Похожая на древнее Распятье…
В залах рыдали курсистки, гимназистки переписывали стихи друг другу в тетрадь. Поклонники Анны обмирали от глубины чувств несчастного влюбленного. Измученный, трепещущий Гумилев!