Вера Смирнова-Ракитина - Авиценна
— Вот до чего довел их наш бедный друг Абу-Али, — с великим сокрушением сказал Тадж-ул-Мулк. — Говорил я ему, чтобы он не восстанавливал против себя этих бунтарей. А сейчас или они его убьют, или тебе, о повелитель, придется казнить его. Иначе как бы не повернулось недовольство воинов против твоего дворца… Как мне жаль этого несчастного ученого!..
До смерти перепуганный эмир Шаме готов был пойти на что угодно, но в этот момент в опочивальню вбежал векиль дворца.
— Новая беда, о повелитель! — воскликнул он. — Вторая толпа собралась на базаре и движется сюда. Ко дворцу идут купцы, ремесленники и хаммалы Они прослышали, что жизнь везира в опасности, и собираются его выручать…
Этой новости эмир вовсе не ожидал. Не ожидал ее и Тадж-ул-Мулк. Поняв, что в дело ввязалась большая сила и возникла угроза резни, от которой может пошатнуться трон, хитрый казначей на мгновение растерялся. С большим трудом нашел он выход из положения. Он посоветовал эмиру пообещать хаджибам не допускать ученого к власти и пока что держать в тюрьме, народ же постараться убедить, что тюрьма в настоящее время самое надежное убежище для ученого.
Эмиру на оставалось ничего другого, как послушаться совета Тадж-ул-Мулка. С этим решением повелителя пришлось примириться и горожанам, вставшим на защиту своего везира.
Глава 3
Абу-Али так и не узнал никогда, чего стоило богатым и влиятельным друзьям его освобождение.
Все полтора месяца, что он провел в тюрьме, они пытались добиться для него свободы любым путем— подкупом тюремщиков, подготовкой побега или просьбами, обращенными к повелителю.
Совершенным бедняком вышел Абу-Али из тюрьмы. Поздним вечером он скромно постучался у дверей одного из своих хамаданских знакомых — Абу-Сада ибн Дахдука.
— Пустишь ли ты меня в свой дом? Скроешь ли бедняка, потерявшего все? — тихо спросил Абу-Али у хозяина.
Тот вместо ответа раскрыл объятия.
Престарелый шейх Абу-Сад вел свое происхождение от Хусейна, сына четвертого халифа Али, и считался духовным главою местных шиитов К Совершая в течение многих лет постоянные паломничества в Кербелу,[48] к могиле своего пращура, он завел там обширные торговые связи и составил себе крупное состояние. Последнее время он жил на покое, окруженный учениками и почитателями. Ибн Сина, которого он принял не только по рекомендации почтенных и богатых местных купцов, но и из личного к нему уважения, мог чувствовать себя здесь в полной безопасности. Даже сам эмир никогда не рискнул бы нарушить неприкосновенность дома Абу-Сада из опасения вызвать восстание всего шиитского населения страны.
О том, где находится Абу-Али, не знал никто, кроме Абдул-Вахида и преданного слуги. Жил ученый в саду, в большой, увитой виноградом беседке» и целые дни писал. Он начал книгу о восточной мудрости, но одновременно с ней написал несколько трактатов, которые Абдул-Вахид уносил для переписки в жалкий окраинный домик, где он проживал в ожидании изменения судьбы своего учителя.
— О, как я понимаю теперь суфиев и их последователей! — шутя говорил Абу-Али своему верному ученику. — Я и сам, пожалуй, готов стать проповедником нищенства! Не иметь ничего — значит стряхнуть с себя все обязанности. Может быть, действительно в этом и кроются корни счастья? Никогда у меня не было более спокойной жизни, чем сейчас и тогда, когда я жил в Джурджане бедняком… Никогда я не мог так плодотворно работать. Никогда мне в голову не приходили такие простые и такие нужные мысли! Смотри, рукописи мои растут, — Абу-Али жестом показал на груду исписанной бумаги. — Я заканчиваю уже третий трактат, он будет называться «Расследование спорных положений». Разобрав несколько случаев, когда хамаданские факихи вынесли неправильные решения, я попробовал вспомнить свои занятия законоведением и думаю, пришел к более справедливым выводам… А в свободное время, знаешь ли ты, друг мой, чем я занимаюсь?
Абдул-Вахид вопросительно поглядел на учителя. Тот достал с полки странный инструмент, формой своей напоминающий разрезанную пополам тыкву с очень длинным стеблем. Вдоль инструмента были натянуты три струны.
— Вот над чем я бился. Мне хочется назвать его гиджак, — улыбаясь, сказал Абу-Али и протянул инструмент ученику.
Тот осторожно взял его и почувствовал, что корпус еле заметно дрожит в руках от каждого сказанного поблизости от него слова — так легко и отзывчиво оказалось дерево, из которого он был выдолблен. Сам инструмент, казалось, готов запеть от легчайшего прикосновения пальцев. Возвращая его, Абдул-Вахид просительно поглядел на учителя. Абу-Али понял его и еще раз улыбнулся мимолетной ласковой усмешкой, которая одинаково относилась и к ученику и к своему новому созданию.
— Я никогда не думал, — почтительно заметил Абдул-Вахид, пока учитель доставал смычок, — что и нож и дерево покоряются тебе так же, как покоряется всякое знание.
Тихий вечер спускался над Хамаданом. Посинело небо. Выше поднялись розовые закатные облака. Темными стали купы деревьев. К ночлегу понеслись легкие птичьи стаи. Тихо-тихо, словно ветер, пролетевший по вершинам деревьев, запел в руках Абу-Али гиджак.
Абдул-Вахид, присевший на ступеньках беседки у ног Абу-Али, видел, наверное, почти то же, о чем думал, играя, его учитель — широкие просторы родных степей, синие дали неба, далекую юность и какую-нибудь Мариам или Ширин, протягивающую тонкие, нежные руки…
Долго играл Абу-Али, пока луна не поднялась, посеребрив вершины деревьев, пока из дому не пришел хозяин звать к ужину. Тогда только поднял голову Абдул-Вахид и едва слышно прошептал:
— Этим можно лечить душу и исцелять всякое горе, учитель!..
А через какой-нибудь час, за вечерней трапезой, хозяин дома сказал:
— Тебя, о достопочтенный Абу-Али, разыскивают по всему городу: Шамс-уд-Давла жаждет тебя видеть. Он опять болен, и без тебя никто не может ему помочь. Меня расспрашивали сегодня, не знаю ли я, где тебя можно найти.
Абу-Али помолчал несколько минут. В душе его боролись чувство долга врача и обида на Шамса, который не сделал ни единого шага к тому, чтобы предупредить или подавить заговор мятежников, или по крайней мере позаботиться о немедленном освобождении своего везира из тюрьмы. Эмир, видимо, относился к Ибн Сине, как к любому другому своему придворному.
Быть может, других он даже предпочитал, так как лучше понимал их нескрываемую корысть, останавливаясь в недоумении перед бескорыстностью и человеколюбием ученого, за которыми всегда можно было подозревать молчаливое осуждение правителя. И вот этот человек, недавно предавший его, сейчас, ища спасения от недугов, снова жаждет видеть его.
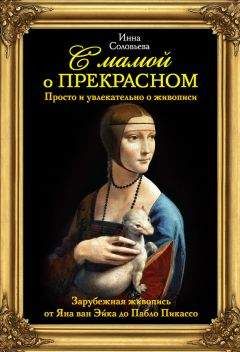

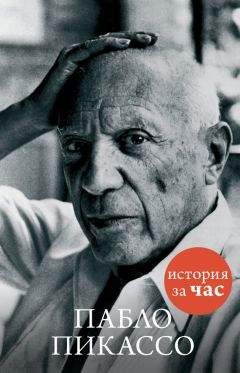
![Александра Гейл - Дневник любовницы мафии [СИ]](/uploads/posts/books/4209/4209.jpg)
