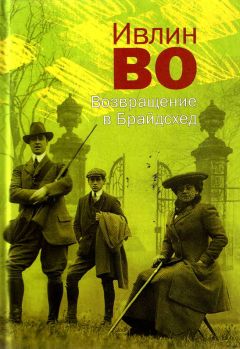Ивлин Во - Насмешник
Пасхальные каникулы были омрачены известием, что брат «пропал без вести» при наступлении под Людендорфом. Барбара оставалась спокойной, тогда как отец не находил места от тревоги. Вскоре пришла телеграмма, сообщавшая, что брат находится в плену. Отец, даже в момент победы, терзался страхом, что германцы уничтожат пленных. Барбара, в восторге от революции в России, была убеждена, что германскому милитаризму пришел конец и Утопия наконец осуществится.
Глава пятая
УЧЕНИЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ
Когда заключили перемирие, я бездельничал в пятом классе классической средней школы у невероятно бестолкового классного наставника. Это событие было встречено буйным ликованием. Никаких наказаний в этот день, Те Deum[117] в церкви, костры, стихийные шествия, всеобщее веселье, звон колоколов. Были такие, кто в проявлении ликования зашел слишком далеко, уж не помню, в чем это выразилось. Думаю, разгромили пожарную машину или бросили в костер что-то, что бросать не следовало; а может, сделали и то и другое — затолкали пожарную машину в огонь. Не могу вспомнить; но зато очень ясно помню напыщенную речь мистера Боулби, который, обращаясь к нам, собравшимся в столовой, осудил «отвратительную выходку. Повторяю, отвратительную выходку». В этот момент его взгляд упал на хамоватого подростка, глупо ухмылявшегося за ближним столом. «А Барнзу смешно! Благодарю тебя, Барнз. Теперь нам известны идеалы Барнза». Потом он пустился в разглагольствования о том, сколь недостойно буйное поведение, повторяя, как рефрен: «А Барнзу смешно!»
Отличное было представление.
К Рождеству брат был уж дома, и это были самые радостные каникулы в моей жизни. Вернувшись в Лэнсинг, я узнал, что ставшим воспитателем у нас вновь Дик Хэррис. С ним пришли такие же молодые, как он, учителя — в том числе славный Дж. Ф. Роксбург, о котором я подробно расскажу в свое время, — истосковавшиеся по гражданской жизни.
Когда лорд Керзон в ответе от лица парламента на тронную речь по случаю победы процитировал: «Великий век начинается в мире заново», — он выразил то, что чувствовала страна и что эхом отозвалось в каменных стенах Лэнсинга. С той поры в школе стало лучше жить и интересней учиться.
Ненасытный желудок, этот бич отрочества, вновь взял над нами власть. Никакие шедевры высокого кулинарного искусства, отведанные мною в последующем, не даровали мне того наслаждения, с которым мы поглощали грубую, бесхитростную пищу, подававшуюся в обычных забегаловках, вновь начавших появляться повсюду. Лавка, в которой прежде предлагали, и то нечасто и в ограниченном количестве, лишь фрукты и овсяные лепешки, теперь ломилась от «сбитых сливок с грецкими орехами», «помадки», мороженого, всевозможных сдобных булочек и шоколада. Наш аппетит зависел только от толщины кошелька. У мальчишек младших классов бывало по фунту карманных денег на четверть, которые мгновенно улетучивались. Мы объедались, пока в карманах не становилось пусто. Для двух третей школы лавка и «ящики для игрушек», тумбочки, где хранились посылки из дома, были единственными источниками лакомств. Треть школы, старшеклассники, имели массу развлечений. Самые младшие по воскресеньям «устраивали» в зале чай для старших. Устраивали по очереди, с притворным рвением. Начиналось чаепитие с сочащихся маслом сдобных лепешек, восьми или больше на человека. С лепешек мы быстро переходили на сладкий пирог, всяческие печенья и, если был сезон, землянику со сливками; это продолжалось до шести, когда мы, отдуваясь, брели, объевшиеся и сонные, в церковь. Старосты «домов» чаевничали подобным образом каждый день у себя в комнате, обслуживаемые малышней; положение обязывало их быть умеренней, не так объедаться. Между воскресеньями наступала очередь «партера», полудюжины или около того мальчишек, учившихся по индивидуальной программе. Тут уже были некие претензии на эпикурейство. Из Лондона иногда присылали маленькие баночки foie gras[118] и икры, и уж тут мы устраивали из чаепития целую церемонию, ну прямо компания девственниц. В ту пору на северной стороне Пикадилли существовала лавка, где был большой выбор китайского чая, дюжина или больше сортов. Мы купили четвертьфунтовые упаковки разных сортов и с благоговением дегустировали каждый, обсуждая их достоинства, как позже обсуждали достоинства вин. Мы тщательно соблюдали ритуал: наполняли чайник паром, давая листочками раскрыться, прежде чем добавить кипящую воду. Никакого молока и сахара. Но, совершив церемонию и прикончив изысканный напиток, мы набрасывались на ту же еду, что и «скамья». Главное было насытиться.
В 1919 году школьная жизнь стала вольготней и интересней.
Но одним результатом наступившего мира было нарушение нормального (или, скорей, аномального) порядка перехода в следующий класс. Кто хорошо показывал себя, оставался в школе, как и до войны, до девятнадцати лет. Лишь тот, кого не переводили, покидал ее раньше. Таким образом, особенно это касалось директорского «дома», образовалась группа тех, кто остался без всякой нагрузки. Первой ступенью в иерархии школьных официальных назначений была «скамья»: восьмерка ответственных за зал, которые имели определенные привилегии и власть, над ними были «партер» и шесть старост «дома» (из которых один, иногда двое назначались старостами классов). Мне и моим друзьям подобная дорога наверх оказалась закрыта на год, чем мы были очень довольны. В этой, по существу, подрывной, группе — мы, выражаясь сегодняшним языком, были «большевиками» — заводилами оказались Фулфорд, я и Руперт Фремлин, приятный и живой как ртуть парнишка, чьего отца сожрал в Индии тигр. Смены чрезмерной веселости и подавленного состояния — «фремлиновская «болезнь» — впоследствии переросли у него в меланхолию. Он был с нами в университете и умер очень молодым в Западной Африке.
После двух четвертей Дик Хэррис ушел из директорского «дома» и возглавил собственный. Мы восприняли его уход как личную утрату и невзлюбили его преемника, которого считали пронырой. По моему мнению, он был чересчур изворотлив для человека его профессии. Он искренне стремился понять наши характеры и несколько преуспел в этом, проявлял к нам доброжелательность. Но был, как казалось, своенравен и излишне любопытен. Мы прозвали его Кошачья лапа и Супершпион. В моем дневнике я посвятил ему немало страниц, где с гордостью описывал, как мы давали безжалостный отпор его попыткам подружиться с нами. Как оказалось, вскоре у меня появилась веская причина быть благодарным ему, но мы расстроились, как девчонки, потеряв Дика, и я помалкивал о своем доверии и расположении к новому воспитателю.