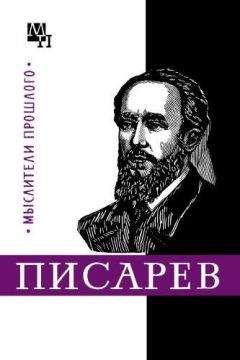Артур Черный - Мир Всем Вам.
Как-то приснился сон: за мной прилетел «борт». Я ни с кем не попрощался и не прихватил ни одного узелка. Не чуя ног, я мчался в аэропорт. В лютую сибирскую зиму, не надев ничего, чтобы согреться…В Чечне я вылезал из самолета в домашних тапках, в старой прозрачной тельняшке, с запоясным тяжелым ножом — единственным оружием, что удалось раздобыть в Барнауле для драки. «Где форма? Как ты будешь работать?» — наседали на меня у трапа со своей ерундой полковники и генералы. «Дома забыл!» — кричал я в ответ, не понимая, как они смеют меня упрекать…
В то же утро меня вызвали в кадры: «Два дня на сбор!» Если б я выиграл остров в южных морях — так бы не плясала душа. Даже те, кто давно меня знал, теперь, наконец-то, засомневались: нормален ли я? Эти два дня я метался по всему Барнаулу, пил с кем придется и спал, где хотел. Роздал в случайные руки всё, что имел, бросил в костер всё, что любил: девичьи письма, книги, кассетные ленты, согнувшуюся от старости гитару — давний подарок ветерана первой чеченской войны. И еще простил своим должникам фантастические долги.
…Перед отправкой по обычаю выдавали обмундирование, которого мы не видели по нескольку лет. Но это был фарс. Не знаю, что было у других, но моя и предыдущая группа, не получили даже тренчик от фуражки, чтоб задавиться. Хотя, по совету тыловиков управления, мы явились туда с двумя-тремя сумками, и еще переживали в дороге, хватит ли рук, чтобы всё унести. Зря переживали. Никто и не заглянул в наши козыри — вещевые аттестаты без единой строки. Всем дали от ворот поворот. И только на мне не прошел обман. Я пришел туда сразу с пустыми руками; во-первых, потому что давно ничему не верил; во-вторых, мне ничего не было нужно, всё итак было на мне. Зачем мне лишние сапоги, шапки и звезды? Грош им цена на завтрашнем мертвеце.
Ах, да… Он был вещим, последний мой сон; участковые не отпустили меня без памятного подарка — тяжелого воровского ножа, отнятого патрулем у уличного хулигана.
…Москва, станция «Автозаводская», 6 февраля 2004 года. Мы опоздали лишь на какой-то час и, когда выходили на перрон, еще не знали, что там произошло. И так удивились, когда увидели, валявшиеся на земле окровавленные трупы, с подогнутыми ногами, в цветных разорванных пуховиках, в лакированных модных туфлях. Удивились, когда увидели раненых, посеченные их руки и животы, когда увидели, как плачут женщины, как жмутся к взрослым испуганные молчаливые дети…
Этот взрыв прогремел так далеко от Чечни! И никто из раненых и убитых никогда не носил камуфляжа, никогда не жал на курок, не поднимал ни одного военного тоста, не поминая про «третий«…Еще вчера она была такой незнаменитой, рядовая эта станция, где глядевшие со стен богатыри, проглядели большую беду. Еще вчера здесь говорили, а теперь воют. Еще вчера каждый стоял на ногах, а теперь не всякий ползет и ползком. Еще вчера отсюда нечего было нести, а сегодня носилки на носилках и труп на трупе…
Сколько их было, свалившихся в тоннеле метро? Говорят, около сорока. Хотя, спросите об этом у тех, кто не умер.
…Мы улетали из Москвы в этот же день. И этим же вечером сидели в каком-то баре Минеральных Вод, сомневаясь насчет спиртного. Мы, два «диких гуся», наконец-то, прилетевшие на юг. И если я мог еще по неделе не брить бороды, то мой попутчик сгодился бы мне в отцы.
Распутный вечерний бар Минеральных Вод… Он поразил меня больше, чем те неподвижные куклы, валявшиеся на полу в московском метро. Здесь никто не смотрел на нас, собравшихся воевать. Мы были презираемой пустотой, случайной тенью в забытом богом углу. Да нам и дали место в углу — самое почетное из всех, что мы заслужили. Оказывается, сюда никто не ходил в форме, здесь не принято было говорить о войне, что начиналась почти за порогом. Здесь шли речи об открытии ресторанов, гремели бесстыдные тосты продажных девиц. Здесь тлели в золотых зубах смолистые кубинские сигары, здесь даже с пола разило небрежно пролитым армянским коньяком. Распутный вечерний бар… Сытые тяжелые лица, пьяные малиновые глаза… Они даже не смотрели на нас, двух убогих, покорно глодавших в черном углу истерзанную курицу — самое дешевое блюдо в этом раю.
Да лучше б мы не ходили туда, лучше б пересидели голодом ночь! И, может, было бы не так стыдно заходить в нищую казарму Учебки, где так часто отключали воду и свет.
…Перед Чечней нам дали вздохнуть. Две недели постигали мы краткие курсы медицины, Корана и чеченского языка. Расстреливали на полигоне белые камни Бештау, и не могли набродиться по хмурым аллеям Машука. А еще никак не верили, что окончен наш страшный сон — невыносимая служба в отделах России.
Оставшиеся после Барнаула и Москвы деньги, я потратил на книги: на мифы о Конфуции, на легенды о Македонском и Тамерлане. Учебка освободила меня для чтения, и этим лишила последних грошей. Здесь я вспомнил, что такое питаться три раза в день, не на бегу, не поздней ночью, на кухне, а не в кабинете. Полгода назад я уходил из Института с мясом на костях, а сюда притащился полным скелетом. Какая-то сердобольная повариха взяла меня на заметку и держала на раздаче, пока не вручала вторую тарелку. «Кушай, сынок», — говорила она, а я готов был слопать и третью.
А еще здесь решилась моя судьба. В один из дней какой-то полковник разбрасывал нас по отделам Чечни. Он сидел за высоким столом, бездушный и строгий, и ему было плевать, какие села и города оставят наш след. У него не дрогнул железный голос, когда он дошел до Грозного. До того города, которым я бредил десяток лет. Который когда-то уволок в рабство свободную мою душу… И вот в день, когда в нём делили места, мне вдруг не досталось билета! Мне, самому преданному его рабу, что ни одного дня не мечтал о свободе! А те, кто был назван?.. Да у них не зашкалило сердце! Да у них не пошли пятнами лица, когда Грозный выбрал их имена! Недостойные!!! Недостойные Грозного, они молча сидели в первых рядах, в тряпочных креслах собрания, едва напрягая свой слух. А за их спинами, вцепившись в драные подлокотники, я один задыхался от горя.
Они захватили мой Грозный! Они убили меня у самых его ворот!
Для меня рухнул весь мир!.. Я настолько обезумел в эти минуты, что даже увидел заговор. И все, кто прежде пожимал мои руки, кто был со мной эти дни, участвовали в этом бесчестье…Я сидел в кресле, с белым мертвым лицом, и ждал, когда все уйдут. А потом, на негнущихся от волнения ногах, стоял перед полковником и врал, как когда-то штурмовал город. Свой Грозный, которого никогда не видел и не назвал бы в нем ни одной улицы. Но мне поверили. И дали право самому совершить бесчестье: я вычеркнул чью-то фамилию, поставив свою.
Теперь, за давностью лет, я не помню ни звания, ни имени этого человека. И мне всё равно, спас я его или же погубил. Он поднял руку на самую чистую мою мечту — Грозный. И даже теперь ему не дождаться жалости.