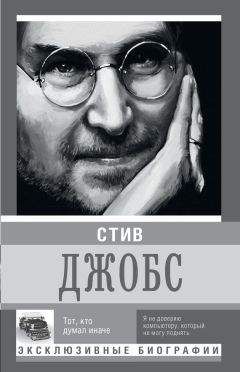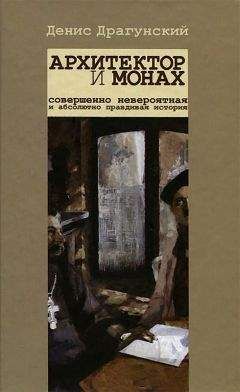Федор Грачев - Записки военного врача
— Де Астуриас, хефе![3] — бросился ко мне юноша, услышав родную речь. Я не ошибся, это был тот самый паренек из Дома испанской молодежи.
— Сколько же тебе лет? — перейдя на русский язык, спросил я.
— Шестнадцать!
— Значит, ты теперь испанский боец народного ополчения Советского Союза?
— Нет, товарищ начальник, — задумчиво ответил Гонсалес. — Советский Союз — моя вторая Родина! И я боец второй Родины!
Испанец был ординарцем начальника штаба батальона. Он родился в Астурии, в семье железнодорожника, отец погиб в первые месяцы борьбы против испанских мятежников.
В ожесточенных боях с превосходящими силами врага испанская народная армия отступила в город Хихон. Он был блокирован с суши и моря. А в городе скопилось много ребят — детей горняков, шахтеров, металлургов, крестьян и служащих. Среди них находился и Гонсалес.
Республиканские власти прилагали все усилия, чтобы эвакуировать ребят. На помощь пришли французские моряки парохода «Деригерма». Они успели взять на судно более тысячи детей. Капитан очень торопился. Бои шли в предместьях города, который подвергался артиллерийскому обстрелу. Дети были доставлены во французский порт Сен-Назер, а туда за маленькими испанцами пришел наш теплоход «Кооперация» и направился в Лондон. Там часть ребят взял на борт второй советский теплоход «Мария Ульянова».
В начале октября 1937 года дети республиканской Испании с воспитателями и педагогами прибыли в Ленинград.
Маленьких испанцев поселили в Пушкине, а ребят школьного возраста — в Ленинграде, где они учились в двух домах-интернатах.
Потом Гонсалес поступил в ремесленное училище, будучи воспитанником Дома испанской молодежи.
— Полковника я тогда все-таки уговорил принять меня добровольцем, — рассказывал Гонсалес. — Выручил диплом инструктора штыкового боя…
— Когда же ты успел получить такое звание?
— Занимался по вечерам в военном кружке. На городском соревновании завоевал первое место. Тогда и получил диплом.
Подвижной, жизнерадостный и отзывчивый Гонсалес — Леша, как звали его в батальоне, — был любимцем наших бойцов. Он старался показать себя заправским солдатом. Служба ординарцем начальника штаба батальона не прельщала паренька. Он рвался в разведчики. И он добился этого: его перевели в желанный взвод разведчиков, а потом он стал связным у начальника артиллерии батальона лейтенанта Михаила Черникова.
Шли дни. События на фронте развивались стремительно. Борьба с врагом приобретала все больший драматический накал. В конце августа Петергоф стал прифронтовым городом. Батальон бомбила фашистская авиация. Всем бойцам батальона выдали медальоны — коричневые трубочки, куда каждый вкладывал свернутый листочек со своей фамилией, должностью, определением группы крови и домашним адресом…
И вот теперь, воспользовавшись своим ночным дежурством в приемном покое госпиталя, я решил написать о моей дружбе с Гонсалесом. Но усталость была столь велика, что, написав несколько страничек, я крепко уснул.
Разбудил меня Ягунов. Было три часа ночи. Открыв глаза, я увидел в руках начальника госпиталя свою тетрадь.
— И надо же! Да ты, я вижу, писатель! — ехидно усмехнулся Ягунов. — Почти Чехов, ей-богу! Отчет составить — так неделями тянешь, а тут смотри сколько накатал! Нельзя так на дежурстве переутомляться. Вот кончится война — пиши на доброе здоровье. Аминь!..
И, положив тетрадь в карман, Ягунов быстро вышел из комнаты. Разноса, которого я ожидал, не последовало. Пронесло!
Но я ошибся.
На утренней врачебной конференции Ягунов устроил мне «бенефис». В мой адрес летели иронические комментарии, в которые Ягунов мастерски облекал свои сочные выводы о пользе сна для дежурного врача.
Рассказ мне все-таки удалось закончить. В начале апреля этот рассказ «Боец второй Родины» я понес на радио.
Лифт в этот день ремонтировали. Поднимаюсь на шестой этаж. С трудом одолел пятнадцать площадок, сто пятьдесят три ступеньки! Уф!..
Меня направили к редактору художественного вещания Н. А. Ходзе. Это блондин невысокого роста, с явно выраженными следами тяжелой дистрофии.
Пока редактор читал мой рассказ, я осматривал его кабинет. Вместо оконных стекол — фанера. В комнате пианино, столы и три дивана. На каждом диване свернутые одеяла. Невдалеке от окна расположилась «буржуйка», на которой стоят три алюминиевые кружки с водой. Труба «буржуйки» выведена в форточку. Около «буржуйки» аккуратно сложенное топливо — ножки от стульев и какой-то разломанный ящик. На стене у письменного стола — три противогаза, три пожарные каски и один финский нож.
Было ясно, что в этой комнате не только работают, но и живут. Редактор не успел дочитать моего рассказа — завыли сирены. Началась воздушная тревога. С проворством, которого я никак, по внешнему виду, не мог ожидать от Ходзы, он схватил противогаз, напялил на себя каску, сунул рукопись в карман и, бросив на бегу: «Спускайтесь в бомбоубежище!» — исчез.
Встреча продолжилась после отбоя воздушной тревоги. Оказалось, что мой редактор — боец противопожарного отделения МПВО и его местом во время налета вражеских бомбардировщиков является крыша Радиокомитета.
Воздушная тревога для квадрата, в котором помещался Радиокомитет, была на этот раз спокойной, — бомбили Выборгскую сторону. Поэтому Ходза успел прочесть рукопись на крыше.
— Рассказ пойдет в конце апреля, — сказал он.
Я поблагодарил. В это время в комнату вошла маленькая, хрупкая на вид женщина. Она была в мужских сапогах, ватных штанах и распахнутом ватнике. Шея обмотана темно-синим кашне.
На ее исхудалом лице выделялись большие красивые глаза с длинными ресницами. Она молча кивнула нам и, подойдя к пианино, по-хозяйски подняла крышку. Потирая руки, уселась поудобнее. Извлекла несколько аккордов и пропела:
Я вам пишу, чего же боле…
Оборвав музыкальную фразу, женщина встала.
— Вытяну! — сказала она, не обращая на нас никакого внимания.
— Где у тебя концерт? — спросил Ходза.
— В подшефном госпитале. — И, снова кивнув нам, певица вышла.
— Кто это?
— Вера Ивановна Шестакова, — ответил Ходза. — Солистка Малого оперного театра… Отказалась эвакуироваться с театром и проработала у нас всю зиму. Вы не поверите, она пела в студии при температуре минус пять-шесть градусов…
В конце апреля, в назначенный день, я снова был в Радиокомитете. Понятно, с каким интересом ожидал я начала передачи своего рассказа. Интерес и волнение мои усугубились еще и тем, что я должен был в конце передачи выступить перед микрофоном — прочесть несколько строчек послесловия.