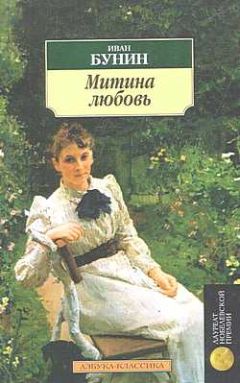«Чувствую себя очень зыбко…» - Бунин Иван Алексеевич
– Вот умрет Толстой, все к черту пойдет!
– Литература?
– И литература.
Про московских модернистов, “декадентов”, как называли их, он однажды сказал:
– Какие они декаденты, они здоровеннейшие мужики! Их бы в арестантские роты отдать…
– Нет, все это новое московское искусство – вздор, – говорил он. – Помню, в Таганроге я видел вывеску: “Заведение искусственных минеральных вод”. Вот и это то же самое. Ново только то, что талантливо. Что талантливо, то ново.
Случалось, что собирались у него люди самых различных рангов: со всеми он был одинаков, никому не оказывал предпочтения, никого не заставлял страдать от самолюбия, чувствовать себя забытым, лишним… Редкая и прекрасная черта!
Всегда со всеми он был любезен, с некоторыми очень ласков. Но и тех и других неизменно держал на известном расстоянии от себя, ничуть не подчеркивая этого и однако внушая всем (за исключением, конечно, самых тупых) почтение к себе, некоторым даже робость.
Чувство собственного достоинства, независимости было у него очень велико, но ему не нужно было стараться проявлять его, – оно исходило от него, как некий радий.
Однажды он, в небольшой компании близких людей, поехал в Алупку и завтракал там в ресторане, был весел, много шутил. Вдруг из сидевших за соседним столом поднялся какой-то господин с бокалом в руке:
– Господа! Я предлагаю тост за присутствующего среди нас Антона Павловича Чехова, гордость нашей литературы, певца сумеречных настроений…
Побледнев, Чехов встал и вышел. И много раз с негодованием рассказывал об этой истории.
Я подолгу живал в Ялте и почти все дни проводил у него. Часто я уезжал поздно вечером, и он говорил:
– Приезжайте завтра пораньше.
Голос у него был глуховатый, и часто говорил он без оттенков, суховато, как бы бормоча: трудно было иногда понять, искренно ли говорит он. И я порой отказывался. Он сбрасывал пенсне, прикладывал руки к сердцу с едва уловимой улыбкой на бледных губах, раздельно повторял:
– Ну, убедительнейше вас прошу! Если вам будет скучно со “старым, забытым писателем”, посидите с Машей, с мамашей, которая влюблена в вас, с моей женой, венгеркой Книпшиц… Будем говорить о литературе…
Я очень любил его, эта настойчивость была приятна. Я приезжал, и случалось, что мы, сидя у него в кабинете, молчали все утро, просматривая газеты, которых он получал великое множество. Изредка в них попадалось кое-что и обо мне, чаще всего что-нибудь очень неумное, и он спешил смягчить это:
– Обо мне же еще глупее писали, обо мне говорили еще злее, а то и совсем молчали…
Случалось, что во мне находили “чеховское настроение”. Оживляясь, даже волнуясь, он восклицал с мягкой горячностью:
– Ах, как это глупо! Ах, как глупо! И меня допекали “тургеневскими нотами”. Мы похожи с вами, как борзая на гончую. Вы, например, гораздо резче меня. Вы вон пишете: “море пахнет арбузом”… Это чудесно, а я бы ни за что так не сказал. Вы же дворянин, последний из “ста русских литераторов”, а я мещанин “и горжусь этим”, – говорил он, смеясь, цитируя самого себя. – Вот про курсистку – другое дело…
– Про какую курсистку?
– А помните, мы с вами выдумывали рассказ: жара, степь за Харьковом, идет длиннейший почтовый поезд… А вы прибавили: курсистка в кожаном поясе стоит у окна вагона третьего класса и вытряхивает из чайника мокрый чай. Чай летит по ветру в лицо толстого господина, высунувшегося из другого окна…
Вот такие выдумывания художественных подробностей и сближали нас, может быть, больше всего. Он был жаден до них необыкновенно, мог два-три дня подряд повторять с восхищением удачную художественную черту.
Раз он купил книжечку, составленную из некоторых произведений Андреева и моих, с пышным заголовком (“Восходящие звезды”) и с нашими портретами на обложке, – ездил на набережную и возвратился усталый, с зелено-серым лицом, с пепельными губами, но с затаенным блеском в глазах, в том внутреннем возбуждении, которое вспыхивало в нем порою по самому ничтожному поводу, означая, что этот ничтожный повод был толчком для творческой игры его мысли, пробудил того Чехова, который когда-то сказал в молодом задоре Короленко: “Хотите напишу рассказ вот про эту пепельницу?” И как молодо хохотал он в этот день, фантазируя, с каким благоговением могут читать эту книжечку где-нибудь в Мариуполе, Бердянске, и, глядя то на мой портрет – я вышел щеголеватым брюнетом, – то на портрет Андреева в поддевке:
– Это французский депутат Букишон, а это казак Ашинов…
Помню еще, как смеялся он, когда я рассказал ему однажды о нашем сельском дьяконе, до крупинки съевшем на именинах моего отца фунта два икры. Этой историей он начал свой рассказ “В овраге”.
Он любил повторять, что, если человек не работает, не живет постоянно в художественной атмосфере, то, будь он хоть Соломон премудрый, все будет чувствовать себя пустым, бездарным.
Иногда вынимал из стола свою записную книжку и, подняв лицо и блестя стеклами пенсне, мотал ею в воздухе и говорил:
– Ровно сто сюжетов! Да-с, мил-сдарь! Не вам чета, молодым! Работник! Хотите, парочку продам?
Иногда он разрешал себе вечерние прогулки. Раз возвращаемся с такой прогулки уже поздно. Он очень устал, идет через силу, – за последние дни много смочил платков кровью, – молчит, прикрывает глаза. Проходим мимо балкона, за парусиной которого свет и силуэты женщин. И вдруг он открывает глаза и очень громко говорит:
– А слышали? Какой ужас! Бунина убили! В Аутке, у одной татарки!
Я останавливаюсь от изумления, а он с радостными, блестящими глазами быстро шепчет:
– Молчите! Завтра вся Ялта будет говорить об убийстве Бунина.
Один писатель жаловался, что ему до слез стыдно, как слабо, плохо он начал писать.
– Ах, что вы, что вы! – воскликнул Чехов. – Это же чудесно – плохо начать! Поймите же, что если у начинающего писателя сразу выходит все честь честью, – ему крышка, пиши пропало!
И горячо стал доказывать, что рано и быстро созревают только люди способные, то есть не оригинальные, таланта, в сущности, лишенные, потому что способность чаще всего равняется уменью приспособляться и живет она легко, а талант растет, как все живое, постепенно ищет проявить себя, сбивается с пути…
– Ах, с какой чепухи я начал, Боже мой, с какой чепухи! – говорил он.
Если бы он даже ничего не написал, кроме “Скоропостижной конской смерти” или “Романа с контрабасом”, то и тогда можно было бы сказать, что в русской литературе блеснул и исчез удивительный ум, потому что ведь выдумать и уметь сказать хорошую глупость, нелепость, хорошую шутку могут только очень умные люди, те, у которых ум “по всем жилушкам переливается”. И сам он чрезвычайно ценил этот талант, талант глупости, шутки, и тех, которые быстро улавливают шутку:
– Да-с, это уже вернейший признак: не понимает человек шутки, – пиши пропало!
– А чаще всего, – сказал я однажды, – страдают этим женщины. Кажись, и умна, а не понимает.
– Ах, да, да. И знаете: это уж не настоящий ум, будь человек хоть семи пядей во лбу.
По берегам Черного моря работало много турок, кавказцев. Зная то недоброжелательство, смешанное с презрением, какое есть у нас к инородцам, он не упускал случая с восхищением сказать, какой это трудолюбивый честный народ.
Он мало ел, мало спал, очень любил порядок. В комнатах его была удивительная чистота, спальня была похожа на девичью. Как ни слаб бывал он порою, ни малейшей поблажки не давал он себе в одежде.
Руки у него были большие, сухие, приятные.
Как почти все, кто много думает, он нередко забывал то, что уже не раз говорил.