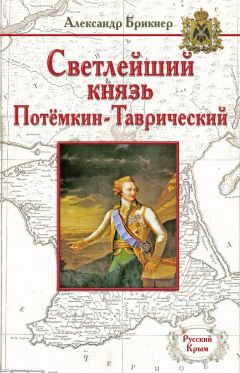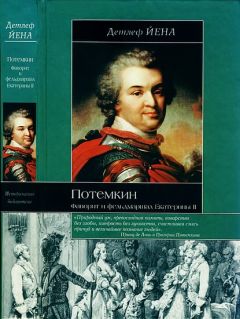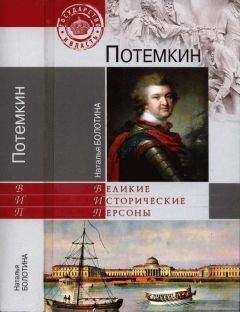Джером Джером - Наброски для повести
Проходя мимо, концертинист задел меня локтем и посмотрел мне прямо в лицо. Глаза его насмешливо прищурились, и он, вынув сигару изо рта, как-то особенно ухарски присвистнул. Глаза были глазами сэра Смайса; в этом я был непоколебимо уверен.
Заинтересованный, я повернул назад и осторожно последовал за гуляками в кабак.
Смайс подошел к буфету и заказал себе стакан джина.
Я подошел к нему и положил ему руку на плечо. Обернувшись и увидев меня, он побледнел как смерть.
— Сэр Джозеф Смайс, если не ошибаюсь? — с улыбкой проговорил я.
— Очень даже ошибаетесь! — хриплым голосом ответил он, сбрасывая с своего плеча мою руку. — Мое имя — Смис, и с важными Смайсами я ничего общего не имею… А вы кто такой? Я вас не знаю.
Пока он говорил, я впился глазами в золотое кольцо вычурной индийской работы, которое он носил на левой руке. В этом кольце я уж не мог ошибиться: оно было известно всему нашему клубу, где я встречался с Смайсом и где оно не раз ходило по рукам, вызывая во всех восторг и зависть. Когда я снова взглянул на лицо стоявшего передо мною этого странного человека, оно совершенно преобразилось: на глазах были слезы, углы рта дрожали, и он сам весь принял самый жалкий вид.
Смайс — это был действительно он — торопливо потянул меня за рукав в отдаленный угол залы и умоляюще прошептал:
— Друг мой, не выдавайте меня этим пьяницам. Не дайте им понять, что я член кукольной комедии, разыгрываемой в Сент-Джеймском дворце. Если они узнают об этом, то повернутся ко мне спиной. Не проговоритесь и об Оксфорде. Они и его мне никогда не простят.
Я был поражен до последней степени. Передо мною сидел представитель высшей аристократии и трясся от боязни, — не того, что в том кругу, к которому он принадлежал по рождению и положению, могут узнать об его уличных похождениях, а наоборот, — того, как бы бесшабашные гуляки, с которыми я его встретил, не узнали, что он вовсе не тот, за кого выдает себя перед ними.
На мои удивленные расспросы, что все это значит, Смайс пояснил мне, что его двойная игра доставляет ему величайшее наслаждение, сущность которой, однако, он сам не может себе объяснить. Регулярно два раза в год он в своем настоящем кругу объявлял, что уезжает на континент, а сам забирался в одну из отвратительнейших глухих трущоб уайтчепелского предместья, переодевался, загримировывался и смешивался с общественными отбросами, против которых так энергично выступал в палате лордов. Теперь он сам участвовал во всех их самых эксцентричных похождениях и яростно ораторствовал на их сходбищах против всего, что не носило печати отверженности.
— А как же вы объясняете своим сегодняшним товарищам свои временные отсутствия из их приятной компании? — спросил я.
— О, их я с самого начала уверил, что я бродяжничаю по всей стране, — ответил он. — Это придает мне особенный престиж в их глазах, — уже со смехом прибавил мой странный собеседник.
Он предложил мне распить бутылочку с его компанией, но я от этого уклонился и, клятвенно уверив его, что никому не выдам его тайны, покинул кабачок. Долго я думал о двойной жизни, которую вел этот утонченнейший представитель высшего аристократического слоя, и с удивлением припоминал, как он в своем объяснении уверял меня, что когда он несколько времени проведет в своем роскошном дворце, среди благ высшей культуры, то эта обстановка так противеет ему, что он со злобою сжигает лучшие произведения всемирной литературы, раздаривает бесценные статуи и картины, и едва может дождаться того блаженного дня, когда будет удобно показать вид, что он опять отправляется «на континент». Не расскажи мне это он сам, я бы не поверил.
Месяц спустя моя служанка подала мне элегантную визитную карточку с именем Джозефа Смайса, и сказала, что владелец этой карточки дожидается внизу и желает видеть меня. Я велел ей просить его в мой кабинет. Он вошел ко мне тем самым высокоприличным и надменным лордом, каким его знал весь фешенебельный Лондон, и после обычных церемоний степенно опустился в кресло, которое я поспешил ему подвинуть. Когда мы остались одни и шаги удаляющейся служанки замерли внизу лестницы, я спросил:
— Значит, Смис опять превратился в Смайса?
Он болезненно улыбнулся и, в свою очередь, со страхом спросил:
— А вы никому не говорили?
Я поспешил успокоить его и ответил:
— Ни одной живой душе, хотя, признаюсь, не раз чувствовал поползновение.
— Надеюсь, вы и потом не поддадитесь этому «поползновению»? — со вздохом облегчения перебил он. — Вы и вообразить себе не можете, как мне тяжело от этого висящего надо мною наваждения! Решительно сам не могу понять, почему мне периодически непременно нужно превращаться в какого-то трущобника. Уверяю вас, что если бы я сознавал себя вампиром или самим дьяволом, то мне бы было несравненно легче, чем чувствовать свое временное тождество с уайтчепелской клоакой. Когда я, приходя в себя, думаю об этом, каждый нерв моего существа протестует…
— А вы хоть сейчас-то не думайте, — прервал я его. — Ведь не затем вы пожаловали ко мне, чтобы предаваться этим думам.
— Нет, именно об этом я и пришел поговорить с вами; больше мне не с кем. Я чувствую неодолимую потребность высказаться до конца человеку, который был бы способен меня понять, а таким я нашел только вас. Мне думается, судьба нарочно сделала именно вас… как бы это выразиться?.. Ну, помогла именно вам проникнуть в мою тайну… Но, быть может, я вам надоедаю? — тревожно осведомился он, впиваясь в меня своими бездонными черными глазами.
— Напротив, — ответил я. — Поверьте, что все, касающееся вас, меня в высшей степени интересует.
Видя, что он заминается, я попросил его не стесняться и прямо приступить к делу, которое привело его ко мне.
— Дело… дело? — бормотал он с внезапно вспыхнувшею на его всегда бледном лице краскою. — Какое тут «дело»?.. Это — не дело, а состояние… Видите ли, дорогой Мак, я влюблен, — с отчаянною решимостью выпалил наконец он и еще больше смутился и покраснел.
— Великолепно! — ободряюще вскричал я. — Очень рад слышать (я надеялся, что это поможет ему отделаться от его «наваждения»). — Может быть, я имею честь знать вашу избранницу?
— Ее зовут Елизаветою Меггинс. Я раз говорил вам о ней.
— Это меня несколько удивляет, — продолжал я. — Насколько мне помнится, вы тогда отзывались о ней не особенно… одобрительно.
— Вы упускаете из вида, что тогда был Смис, а не Смайс, — заметил мой странный посетитель. — Разве тот несчастный человеческий черновик может ценить женщину?.. Презрительное отношение к мисс Елизавете Меггинс этого полудикаря служит лучшим доказательством ее превосходных качеств.