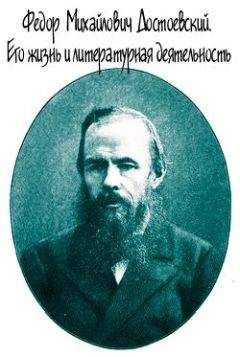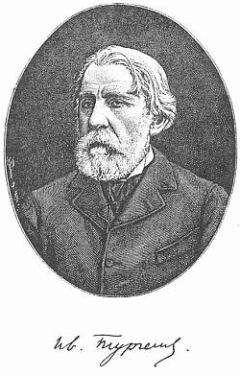Евгений Соловьев - Александр Герцен. Его жизнь и литературная деятельность
В этих строках и философия системы, и желание запугать. Философия плоха и низменна, как все устрашающее; угроза – велика. Видна узкая себялюбивая проницательность, так как крепостное право объявлено непоколебимым.
Система начинала преследовать человека с того дня, как он родился, и во всяком случае с того, как он поступал в школу. Герцен превосходно это понял, и его строки дышат озлоблением и печалью.
«Пока умы (после декабрьской катастрофы 1825 года), – говорит он, – оставались в тоске и тяжелом раздумье, не зная, куда идти, „система“ шла себе с тупым, стихийным упорством, затапливая все нивы и всходы. Знаток своего дела, она (система) с 1831 г. начала воевать с детьми. Она поняла, что в ребяческом возрасте надобно вытравлять все человеческое, чтобы сделать „благонамеренных“ по образу и по подобию своему.
Воспитание, о котором мечтали, сложилось. Простая речь, простое движение считалось такою же дерзостью, преступлением, как раскрытая шея, как расстегнутый воротник. И это избиение душ младенческих продолжалось 30 лет.
Отраженной в каждом инспекторе, директоре, ректоре, дядьке – стояла система перед мальчиком в школе, на улице, в церкви, даже до некоторой степени в родительском доме, стояла и смотрела на него оловянными глазами без любви, и душа ребенка ныла, сохла и боялась, не заметят ли глаза какой-нибудь росток свободной мысли, какое-нибудь человеческое чувство.
А кто знает, что за химическое изменение в составе ребяческой крови и нервной плазмы делает застращенное чувство, остановленное слово, слово скрывшееся, чувство подавленное?
Испуганные родители помогали «системе»; они скрывали от детей единственное благородное воспоминание, чтобы спасти их неведением. Молодежь росла без традиций, без будущего, кроме карьеры. Канцелярия и казармы мало-помалу победили, победили гостиную и общество, аристократы шли в казармы, Клейнмихели – в аристократы; ограниченная личность начальника мало-помалу отпечатывалась на всем, всему придавая какой-то казенный, правильный вид, все опошляя».
Это важно, что опошление и порча дошли до детей, хотя русская жизнь в этом отношении последовательна: реакция шестидесятых годов закрепилась введением классической системы (1866 год), еще худшей, более формальной и подозрительной, чем система Николая I.
Скверно жилось детям. Трудно, впрочем, сказать, кому хуже: детям или взрослым?
Об этой жизни взрослых у нас остались такие поразительные правдивые документы, как «Дневник» Никитенко, охватывающий всю эпоху, и «Дневник» Герцена за три года. И там и здесь без прикрас, без художественных гипербол выступает на сцену вся подлая, страшная правда жизни.
Все было построено на отрицании личности, ее исканий, ее самостоятельной инициативы, ее мысли. Время, когда каждый генерал мог остановить любого прохожего на улице, сделать ему замечание или отправить его под арест, время, когда, по словам Николая I, «и генералу не всякую книгу можно читать», время ссылок, шпицрутенов и розог вырвало у Герцена такие слова:
«Если бы Россия не была так пространна, если бы чужеземное устройство власти не было так смутно устроено и так беспорядочно выполнено, то без преувеличения можно сказать, что в России нельзя было бы жить ни одному человеку, понимающему сколько-нибудь свое достоинство».
Нельзя жить почему? Потому, что:
«свобода лица есть величайшее дело, на ней и только на ней может вырасти действительная свобода народа. В себе самом человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее как в ближних, как в целом народе».
У нас – ничего подобного. «У нас лицо всегда подавлено, поглощено». У нас нет ни свободной личной, ни общественной жизни.
У нас только государство и его слуги – казенные человеки. У нас лишь вынужденное стремление приобрести покровительственную окраску, или молчание, или лицемерная трусливая мысль.
Естественно, что лучшее свое создание – «С того берега» – Герцен называл «дерзким протестом независимой личности против воззрения устарелого, рабского и полного лжи, против нелепых идолов».
Насколько это было возможно сделать в небольшой брошюре, посвященной преимущественно биографическим данным, я охарактеризовал литературную деятельность Герцена в России до 1846 года. В этом году он уехал за границу и навсегда простился с родиной. Мы видели потом его первые восторги перед Европой или, лучше сказать, перед революцией 1848 года, его скорое разочарование. Он понял, что из этой революции не вышло ничего и еще долго ничего не выйдет. В сущности даже, она способствовала укреплению мещанства и капитализма, потому что разбитый в июньские дни пролетариат замолчал вплоть до Коммуны в Париже и Интернационала, то есть больше, чем на 20 лет…
В 1848 – 50 годах Герцен лучшую книгу свою «С того берега» построил на мысли: «Прощай, отходящий мир, прощай, Европа!»
Написав эти слова, он с ужасом спрашивает: а мы что сделаем из себя?
«Последние звенья, связующие два мира, не принадлежащие ни к тому, ни к другому; люди, отвязавшиеся от рода, разлученные со средою, покинутые на себя; люди ненужные, потому что не можем делить ни дряхлости одних, ни младенчества других, – нам нет места ни за одним столом. Люди отрицания для прошедшего, люди отвлеченных построений в будущем, мы не имеем достояния ни в том, ни в другом, и в этом равно свидетельство нашей силы и ее ненужности.
Идти бы прочь… Своею жизнью начать освобождение, протест, новый быт…
Как будто мы в самом деле так свободны от старого? Разве наши добродетели и наши пороки, наши страсти и, главное, наши привычки не принадлежат этому миру, с которым мы развелись только в убеждениях?
Что же мы сделаем в девственных лесах? Мы, которые не можем провести утра, не прочитав пяти журналов, мы, у которых только и осталось поэзии в бое со старым миром, что… Сознаемся откровенно: мы плохие Робинзоны.
Разве ушедшие в Америку не снесли с собою туда старую Англию?
И разве вдали мы не будем слышать стоны, разве можно отвернуться, закрыть глаза, заткнуть уши – преднамеренно не знать, упорно молчать, т. е. признаться побежденным, сдаться? Это невозможно! Наши враги должны знать, что есть независимые люди, которые ни за что не поступятся свободною речью, пока топор не прошел между их головой и туловищем, пока веревка им не стянула шею.
Итак, пусть раздается наше слово!
…И кому говорить?… о чем? – я, право, не знаю, только это сильнее меня…
Париж, 21 декабря, 1849 г.»
Очевидно, что в один из моментов 1850 года Герцен не видел перед собой никакого выхода. Это был приступ мрачного разочарования, тяжелой меланхолии.
Но скоро все же он нужный ему выход нашел.