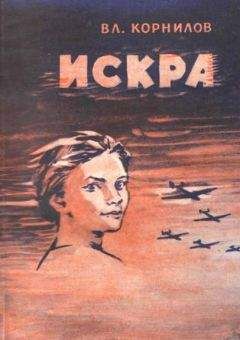Владимир Корнилов - Демобилизация
На войну его не взяли из-за близорукости и он спокойно окончил университет, а затем аспирантуру. Но дальше дело не пошло. Едва он начинал где-нибудь читать курс, его тут же увольняли, потому что читал он, несмотря на отличный голос и довольно обширные знания, из рук вон плохо, к лекциям не готовился, а на слово был не быстр. Студенты забивали его хитрыми вопросами, он мешался, начинал хамить и его увольняли. Он стал предпочитать заочные факультеты, где народ попроще и стремится не столько к знаниям, сколько к зачетам и бумажкам. Зачеты он ставил охотно да и неудов и троек никому не лепил, как считалось - по доброте, а на самом деле - по безразличию и из боязни неприятностей. Неприятности все равно получались и он увольнялся не всегда по собственной инициативе. С каждым годом устраиваться становилось труднее: все больше людей защищалось и жаждало кандидатских ставок; и Бороздыка в конце концов переключился на журнальную работу. Он мог бы, подобно Крапивникову (правда, тот был членом партии), найти себе постоянное штатное место, но не терпел дисциплины (даже вполне не строгой, журнальной), а тем более ответственности, и потому пробавлялся мелкой работой, надеясь использовать свободное время для чего-то серьезного, настоящего, как он говорил - для вечности и души.
- А где вы стакнулись с армигй? - спросил, с удовольствием выпуская витое колечко синего дыма. - Или это неприкосновенная область?
- Наверно, не заметил, - подумала Инга, вспоминая вчерашнюю встречу в Докучаевом переулке. - Пожалуйста. От вас никаких секретов. Вчера была в гостях у мадам Сеничкиной. Технический лейтенант - кузен доцента.
- Радеют родному человечку? - усмехнулся Бороздыка. - Так, так...
Всякое упоминание о Сеничкине выводило его из себя. Он чувствовал, что между Ингой и доцентом что-то есть.
- Ничего подобного, - сердито отмахнулась аспирантка. - Реферат совершенно непроходимый. Доцент учинил смертельный разнос. Проходимые работы я бы вас читать не просила, - добавила примиряюще.
Он тут же откликнулся, потому что к себе самому был чрезвычайно чуток и внимателен:
- Да, извините... Вам сегодня нехорошо? Может быть, уйдем отсюда?
- Нет, - нервно пожала плечами. - Не могу. Ну, а вы как - набросали чего-нибудь?
- Что я? - вздохнул Бороздыка. - Я ведь, Инга, другой. У меня куча недостатков, но, честное слово, я начисто лишен тщеславия. Одному на мильон есть что сказать, а пишут всего лишь из адского самолюбия. Гордыня - всё. Я скорей извиню графомана. Тот не ведает, что творит, и творит бескорыстно. Бескорыстно и безнадежно. А эти на одном тщеславии держатся...
"Это он об Алеше", - подумала Инга.
- Да и, сами понимаете, что сейчас скажешь? Ведь за что ни возьмись, все нельзя!..
- А "Об искренности"?
- Ну, это же собрание баек! Мы ведь с вами говорили...
Они действительно говорили об этой статье, но несколько по-иному. Два месяца назад Бороздыка кричал на всех перекрестках, что это - потрясающе, великолепно, грандиозно, переворот в мыслях и вообще катехизис всего насущного. Ранним воскресеньем он поднял Ингу с постели и, захлебываясь, брызжа слюной в трубку, так что было слышно в аппарате, выкрикивал цитаты. Теперь эта статья была для него собраньем баек.
- Все прекрасно, - входил он в роль. - В России всегда так было. Если что выскакивало на поверхность, так только силою гения, именно силою сумасшедшего гения. А простому образованному человеку никогда нельзя было пробиться. Вот ведь я. Я не талант, не гений. Я просто человек, читатель. Но у меня свое. Я что-то беру, чего-то не принимаю. Но у меня собственный путь. Я хотел написать грандиозное исследование - историю русской мысли. Я бы начал с Чаадаева. На Чаадаеве все сошлось. Но ведь Чаадаев сейчас все равно, что... - Игорь Александрович наклонился к Инге и, понизив голос, прошептал: - Бердяев... - хотя поначалу хотел сказать: "Бухарин".
- А Чаадаев - это все. Это начала и концы Руси, русской идеи. Без Чаадаева вам никак нельзя.
- А без Тёккерея? - улыбнулась аспирантка.
Неделю назад, когда она жаловалась ему, что у нее не клеится с диссертацией, что ее работа никому не нужна, что и без того статей и монографий хватает, он, успокаивая ее, возбужденно доказывал, что Теккерей велик, что без Тёккерея Англия не Англия и даже Европа совсем не то; что "Ярмарка тщеславия" - это не только книга, это суть, это в самое яблочко простреленная История, и что вообще такое наша жизнь, как не Ярмарка именно того самого Тщеславия!
- Теккерей? - опомнился сейчас Игорь Александрович. - Что ж, Теккерей... - ему хотелось сказать какую-нибудь гадость о Теккерее, хотя бы потому, что общие политические места в диссертации подрядился писать Сеничкин. Месяца два назад сам Бороздыка согласился набросать для Инги эти куски, но то ли не засел, то ли у него ничего путного не вышло, и он даже обрадовался, когда вскоре за это нудное дело обещал приняться молодой доцент. Раздраконить всегда можно. А там, глядишь, и удастся перелопатить сеничкинскую писанину так, что ни он сам, ни Инга не узнают. В итоге и доцент будет посрамлен, и Игорь Александрович окажется на высоте. Но теперь отношения Инги и Сеничкина вышли из-под контроля Игоря Александровича. Они встречались где-то вне его досягаемости, в каких-то отдаленных кафе или плохеньких окраинных ресторанах, ездили на лыжах или просто бродили по зимним улицам - и дело шло к тому, что Инга вообще могла не показать Бороздыке того, что накропает для нее дурак-философ.
- Теккерей - для Англии Чаадаев, - вдруг нашелся Игорь Александрович, потому что еще рано было ругать английского классика. И Игорь Александрович еще питал некоторые надежды. В конце концов Сеничкин прощелыга, к тому же женат на работнице грозного ведомства. С такой шутки плохи.
- Нисколько не меньше, чем Чаадаев, - важно повторил Бороздыка, чтобы не слишком отрываться от разговора.
- Спасибо, - скорчила Инга гримасу. - Вы меня взбодрили.
Она вернулась в зал. Но в зале работа двигалась в том же темпе и с тем же успехом. Только что росла пачка исписанных до трети или до половины листов и в конце концов Инга стала рисовать на полях платья, юбки и блузки.
"Быстрей, что ли, - думала, - обед. Можно сдать книги и пойти прямо из буфета в эту самую башню". Натощак туда идти не хотелось.
3
- Если б не эта безобразная поденщина, - сказал Игорь Александрович, когда они, наконец, засели в буфете, - я бы все-таки написал книгу. Именно книгу, а не работу, не статью. Книгу. Почти беллетристическую.
Он улыбнулся. Он был почти одухотворен. Неаккуратно подцепив трехзубой вилкой комок теста с мясом под названием - рожки, он выдавил:
- Булгарин. Да, тот самый Фаддей Булгарин. Пушкин был пристрастен. Где ему было с его гармонией понять издателя "Северной Пчелы"? Булгарин - это фигура для Достоевского. Это Свидригайлов, Лебезятников, Лебедев, кто хотите - но это чисто русский и в то же время европейский экземпляр. Знаете - "широк, не мешало бы убавить!"? Чёрт с ним, я все брошу. Сяду на хлеб с кашей, но напишу.