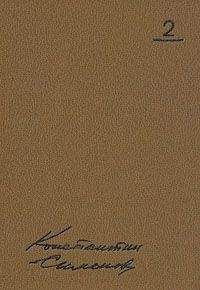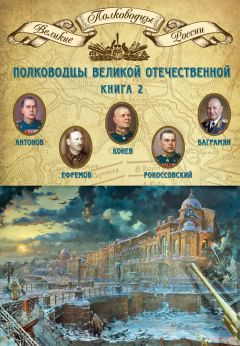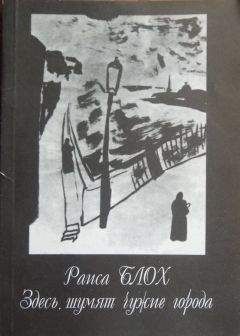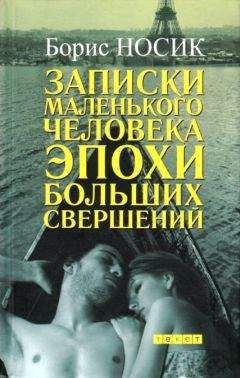Борис Носик - Здесь шумят чужие города, или Великий эксперимент негативной селекции
У богатейшего купца и заводчика московского старообрядца Павла Михайловича Рябушинского и его жены Александры Степановны (дочери хлеботорговца Овсянникова) родилось девятнадцать детей, а выжило тринадцать, из которых восемь были сыновья. Первые четыре сына — Павел, Сергей, Владимир и Степан, окончив Академию практических наук и пройдя за границей стажировку, продолжали отцовское торгово-промышленное дело («Товарищество мануфактур П. М. Рябушинского с сыновьями»), открывали банки, фабрики и компании, наживали деньги. «Родовые фабрики, — образно писал позднее один из них, Владимир, — были для нас то же самое, что родовые замки для средневековых рыцарей». И шестой, и седьмой, и восьмой сыновья (Михаил, Дмитрий и Федор) тоже занимались серьезным делом. Дмитрий, например, стал серьезным ученым, открыл аэродинамический институт, напечатал две сотни научных работ по аэродинамике, математике, астрофизике… И только пятый сын, Николай, получив такое же, как братья, солидное образование, оказался неспособным к ведению хлопотного торгово-промышленного дела. Он вышел из «Товарищества мануфактур» и, получив свою долю наследства, стал вести, как выразился герой Ильфа и Петрова, «исключительно интеллектуальный образ жизни» — женился и разводился, посещал рестораны, театральные премьеры и вернисажи, терся среди богемы, гулял по ночам с цыганами или швырял деньги без меры ресторанной шансонетке-француженке, строил экзотическую виллу в Петровском парке, а то и бывал замешан в романтических ресторанных скандалах…
Позднее стареющий художник Сергей Виноградов с ностальгическим восторгом описывал на страницах рижской газеты безумные ночные пиры молодого Рябушинского и его нашумевшие брачные истории: «А сколько красивейших женщин было с его жизнью связано! Да ведь какой красоты-то!».
Тот же Виноградов утверждал, что не лишен был Николай Рябушинский ни таланта (занимался живописью, писал в журналы), ни вкуса, ни амбиций, ни организаторских способностей, ни энергии, и все это выяснилось уже в его первых шагах к расширению своей популярности. Однако многие люди искусства отмечали при общении с ним неистребимый налет купеческого ухарства и нуворишеского хамства. Одной из этих нуворишеских черт представляется упорное нежелание, швыряя деньги «напоказ» (на зимние пиры с ландышами, на роскошные «презентации», на нелепый автомобиль с серебряными потрохами), платить за работу, а также презрение к тем, кому он платит. В книге о любимом художнике Рябушинского Павле Кузнецове (вся вилла Рябушинского была завешана его картинами) приведен отрывок из письма брата Кузнецова, обращенного к этому художнику: «Помню и такой случай. Однажды вечером мы подошли к вилле „Черный лебедь“, и ты велел мне ожидать тебя, а сам пошел к Рябушинскому получить деньги за картины. Я долго ожидал, и вот ты пришел и говоришь: „Отдал, сукин сын, да не все, с него трудно получать“».
Нечто подобное вспоминали и другие, кому пришлось общаться с Николаем Рябушинским в пору расцвета его деятельности. А общались с ним многие, потому что решил Николай Рябушинский вступить «на стезю Дягилева», подхватить знамя захиревшего «Мира искусства», сколотить группу художников, поэтов и критиков, открыть новый журнал искусств, привлечь и молодежь, и корифеев «Мира искусства» — Бакста, Лансере, Сомова… А к Александру Бенуа энергичный Рябушинский отправился в 1906 году аж на самый берег Атлантики, в укромное бретонское селение Примель, где художник жил с семейством: «Пожаловал этот гость в три часа пополудни и уже в шесть отбыл, но пожаловал он на великолепной, грандиозной открытой машине (что одно было великой диковинкой, так как автомобилей на бретонских дорогах тогда и вовсе еще не было видно. — Б. Н.). Был тот гость сам Николай Павлович Рябушинский, тогда еще за пределами своего московского кружка не известный, а уже через год гремевший по Москве благодаря тому, что пожелал „продолжать дело Дягилева“ и даже во много раз перещеголять его. Считаясь баснословным богачом, он возглавлял всю московскую художественную молодежь и в своей вилле „Черный лебедь“ стал устраивать какие-то удивительные пиры, а то и настоящие „афинские ночи“. В той же вилле он держал на свободе, пугая тем соседей, диких зверей. Сам Николай Павлович что-то по секрету пописывал и производил весьма малоталантливые картины в символическом, или, как тогда говорили, декадентском, роде. Наподобие Алкивиада он всячески бравировал филистерское благоразумие старосветской Первопрестольной и швырял деньги охапками. Его появление у нас было совершенно неожиданным, ибо я не имел ни малейшего понятия о таком представителе московского именитого купечества, приобщившегося к последним западным течениям. Но появление Николая Павловича тем более всех поразило и озадачило, что он приехал не один, а с прелестной, совершенно юной, но уже славившейся тогда испанской танцовщицей (не могу вспомнить ее имени). Он таскал ее всюду за собой и совсем вскружил ей голову, но не столько своими авантюрами, сколь буйным образом жизни и сорением денег. Был он малым статным, с белокурыми, завивающимися на лбу (если не завитыми) волосами, а лицо у него было типично русским и довольно простецким. Что же касается его манер, то казалось, точно он нарочно представляется до карикатуры типичным купчиком-голубчиком из пьес Островского. И говор у него был такой же характерный московско-купеческий, с легким заиканием, ударением на „о“ и с целым специфическим словарем. Иностранными языками он тогда почти не владел, а как он объяснялся со своей красавицей, оставалось тайной: вероятно, формулы любовных объяснений были ему известны на каком угодно языке, — успел же он объездить весь свет, побывать даже у людоедов Новой Гвинеи, где однажды ему дали вина не в кубке, а в черепе врага того племени, среди которого он оказался и вождь которого таким образом особо почтил гостя. Тогдашний Рябушинский был фигурой весьма своеобразной и немножко тревожной. На что я ему понадобился и для чего он примчался до самого Финистера, я сразу не мог понять, тем более что он сам был, видимо, смущен и старался скрыть это, — как-то уж очень был развязен, егозил и путал. Наконец он все же объяснился. Я ему понадобился как некий представитель отошедшего в вечность „Мира искусства“, как тот элемент, который, как ему казалось, должен был ему облегчить задачу воссоздать столь необходимое для России культурно-художественное дело и который помог бы набрать нужные силы для затеваемого им — в первую голову — журнала. Название последнего было им придумано: „Золотое руно“, и все сотрудники должны были сплотиться, подобно отважным аргонавтам».