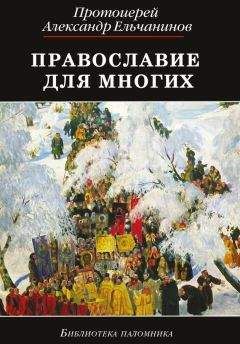Екатерина Старикова - В наших переулках. Биографические записи
В Волкове — новшество: возле избы построена деревянная будочка-уборная. Раньше ходили буквально «на двор», где стояла скотина. Вокруг будочки — высоченная густая крапива. Я как-то невзначай да и скажи при Дмитрии Ивановиче: «Ну и крапива у вас вымахала!» Наутро смотрю: выкошена крапива. Раньше она считалась первым признаком бесхозяйственности и упадка. Вот он, почти слепой, и устыдился. А у меня и в мыслях ничего такого не было.
Иду как-то из леса мимо бань, а за ними в овсяном поле — телята, штук шесть-семь пробрались через поломанное прясло и пасутся в свое удовольствие. Я бегом к Сане: «Что же это делается, надо скорее выгнать». А она так спокойно на меня посмотрела, помолчала и обронила: «Так ведь колхозные — и поля, и телята». Вот те раз! Я-то хорошо еще помнила твердую деревенскую науку: не дай Бог скотину в поле упустить.
Внук Сани, сидя за столом, говорит строго: «Баб, а баб, ты смотри, не трогай моих грибов. Помнишь, мы вместе собирали? Так свои я домой отвезу». Я вмешиваюсь в разговор: «Как же это нехорошо получается: собирали вместе, обедаете вот вместе, а грибы — не трогай», но Саня перебивает меня: «Правильно, миленький, правильно. Все в свой дом неси, все — в дом». Наши представления о воспитании явно расходятся.
А едят в Волкове, как я погляжу, все-таки плохо, хотя Саня старается и почти каждый день печет пироги. Но разве это те, бабушек наших, пироги? И где знаменитые здешние кокуры? «Санечка, а чего ты кокур не испечешь?» — спрашиваю я. «Кокур? Да я что-то забыла про них и не вспомню, как их стряпали». Она многого не помнит из того, что традиционно пеклось и варилось в Ландехе. Утрачена старая ландехская культура быта. Корова у Сани своя, но молока взрослые не пьют: все уходит на масло и сметану, чтобы было с чем есть кашу и забеливать похлебку. Мяса — никакого. Еда однообразна, груба и несытна. Так мне кажется с моими столичными привычками.
В кухне у Сани висит прекрасная старая икона со многими клеймами. «Праздники» называет ее Саня. А в горнице — аляповатая современного изделия Божья Матерь, украшенная яркими бумажными цветами. «Какая хорошая у тебя икона в кухне! Старинная». — «Хорошая, — соглашается Саня. — Твоей бабушки Марьи Федоровны». — «А в горнице-то похуже, новая. Ты бы перевесила их, поменяла местами. Вон как она закоптилась от печи», — советую я. «Да та-то в горнице вроде поприглядистей», — явно не соглашается с моим вкусом Саня.
Мы иногда расходимся с Саней и в религиозных вопросах (хотя какой я в них авторитет?). Вот Саня что-то неодобрительное буркнула о старообрядцах, живущих, оказывается, верстах в двадцати от Ландеха (Саня признает только версты, километры игнорирует). Я пытаюсь защитить старообрядцев: «Ну какие же они нехристи? Такие же христиане и даже православные. Только пальцы, крестясь, не так складывают, как мы». Как сердито смотрит на меня Саня! И молча сплевывает в сторону, не снисходя до дискуссии.
Саня то и дело бегает, а то и на велосипеде едет в село, в церковь. У нее там своя жизнь и обширная деятельность. «Я завтра рано уйду, а ты попозже приходи: служба больно хорошая», — говорит она мне. Но прихожу я к церкви к концу службы и жду Саню на лавочке, слушаю разговоры отмолившихся баб. С одной стороны, в магазин привезли детские колготки (как режет мне слух это странное слово на ландехском погосте!), надо бежать в очередь. Но с другой стороны, надо собрать деньги на похороны какого-то самоубийцы. Собирают по рублю, но у меня с собой и кошелька нет. Когда Саня выходит из церкви, я спрашиваю ее, не хочет ли она участвовать в сборе денег на похороны. Саня поджимает губы и отвечает: «Чтобы я свой рубль отдала для пьяницы? Они то и дело здесь вешаются. Не знают, зачем им Господь Бог жизнь дал, а я свой рубль отдавай?» Саня уверена, что она-то знает, зачем жизнь дана.
Мама, Саня и я идем «по землянику» на ближайшие вырубки. Жара. Ягода посохла. В кустах слышится звук: вжиг-вжиг. Подходим, древние старик и старуха еле-еле терзают пилой поваленную толстую березу. Кланяемся пильщикам, это муж и жена из Волкова. Отойдя от них, я говорю Сане: «Как грустно! Такие старые и должны такую тяжелую работу делать. За что такое наказание?» — «Они-то знают, за что! — парирует мои слова Саня. — Господь Бог наказывает». Для нее жива память о старых деревенских счетах времен коллективизации, когда травили Макара Антоновича.
В поисках ягодных мест Дмитрий Иванович предлагает пойти в другую сторону, «за нашу столицу». «Куда это?» — недоумеваю я. «Да за Селивановскую, мы ее „столицей“ зовем». Идем по направлению к соседней за ближним лесом деревне. Да где же она? Отдельные дома в гуще разросшихся до непроходимых зарослей кустов и сорных трав, загородки сломаны, лес подступил к самым постройкам, уличный их порядок нарушен. «Тут что же никто теперь не живет?» — спрашиваю я. «Почему никто, — отвечает Дмитрий Иванович. — Одна старуха вон в том доме осталась. Не хочет переселяться. В своем доме, говорит, помру. Ей раз в неделю трактористы хлеба привозят». Вплотную подхожу к одному из домов, заглядываю в окно, символически перекрещенное одной прибитой к наличникам доской в знак покинутости жилища, и вижу: в избе свалены в кучу столы, табуретки, посудные полки, такие же прочные и чистые, как сам дом. «Саня, — воскликнула я, — да ты посмотри, какие хорошие вещи брошены. Тебе ничего не надо?» Саня смотрит на меня почти с ужасом и во всяком случае с брезгливостью. «Не нами делано, не нами куплено, не нам и брать». Я отскакиваю от окна, обожженная стыдом: забыла такую простую заповедь, священное право собственности, опору былой ландехской этики. Это колхозное, общее можно не беречь, а личное, чужое — неприкосновенно.
Родственников в Ландехе полагается почитать, несмотря ни на что. Саня напоминает нам, что есть и еще родня — папина двоюродная сестра Пелагея Васильевна с сыном. Сын, правда, сильно пьет, да и Пелагея, какая была, такая и осталась, — вздорная. Не любил ее Вася, а все-таки сестра. Она уже в церкви ее, Саню, спрашивала: «Все говорят, к тебе гости из Москвы приехали. Что же ко мне не кажутся?» Сходите, нехорошо. Пелагея теперь не в Ушеве живет, после того как все Ушево сгорело, она в селе построилась прямо против собора, возле Колобовых.
Идем с мамой в Ландех. Легкие тучки заволокли небо. Идти легко, но как обезображен въезд в Ландех, когда-то такой уютный своими молодыми сосенками на песчаном бугре и тихой, почти неподвижной, заросшей по берегам камышом рекой. Все разъезжено леспромхозовскими тяжелыми машинами, захламлено железным ломом. Сразу находим напротив собора Пелагеин дом: большой, из старых, кое-где обгорелых бревен, и самый несуразный, как и всегда было у Оброновых. А вот и сама хозяйка вышла на крыльцо, видно, углядела гостей в окно. В горнице на столе шумит самовар. «И что это ты, мать моя, так постарела?» — таковы первые слова Пелагеи Васильевны, обращенные к маме. «Так ведь годы идут, Пелагея Васильевна, — миролюбиво отвечает мама. — Мы с тобой не виделись более полувека». — «Ну какие у тебя годы, чтобы быть такой старой? — стоит на своем Пелагея. — Да и Василий что-то рано помер». — «Да и ты не помолодела, Пелагея Васильевна», — не выдерживает мама. В дом вваливается здоровенный сын хозяйки дома, вдребезги пьяный. Мать усаживает и его за стол, он плетет что-то несуразное и начинает недвусмысленно приставать ко мне. Это к родственнице? В Ландехе? К гостье в своем доме? Такое попрание всех правил и обычаев смущает даже Пелагею Васильевну. Она гонит сына из горницы, провожает спать. «Мама, давай поскорее уйдем», — предлагаю я. Когда Пелагея возвращается, за окнами гремит гром. «Гроза идет. Мы, пожалуй, пойдем. Может, до дождя успеем вернуться», — поднимается от стола мама. «И то поспешите. А то застанет дождь незнамо насколь», — отзывается хозяйка. Она стоит на крыльце, когда мы выходим на соборную площадь. Падают первые капли дождя. «Прощайте, Пелагея Васильевна», — весело и освобожденно кричит мама. Дождь усиливается, но нас не окликают с крыльца, дверь в Оброновский дом уже захлопнулась. «Давай переждем дождь в соборе», — предлагаю я. Мы укрываемся под остатками кровли. Боже, как обезображен собор! Не только содран со стены и разбит на куски золоченый иконостас, но и стенные фрески отколоты и разбросаны по земле. Вон один глаз какого-то святого наблюдает за нами снизу. Да и кровельные балки угрожающе наклонились, вот-вот рухнут. Гром гремит, льет дождь. «А знаешь, мама, пойдем-ка отсюда. Дождь теплый. А то еще упадут на нас эти балки». Мама соглашается: «Не хватало нам погибнуть под остатками ландехского собора. Слишком уж это было бы многозначительно. Пойдем». Мы выходим под дождь. И словно в награду за решительность минут через десять гроза уходит за лес. Идти по мокрой песчаной дороге легко и привольно. И пока мы доходим до Волкова, платья наши почти высыхают. Мы со смехом рассказываем Сане, как приняла нас родственница. «Стыд-то какой, гостей — под дождь. Ну пусть придет Пелагея Васильевна в церковь, уж я ей выскажу…» — сердится Саня. А нам смешно. Папа всегда не любил Пелагею.