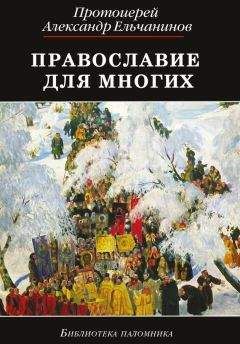Екатерина Старикова - В наших переулках. Биографические записи
Утром с поредевшей толпой родственников мы идем в Ландех: традиционное посещение кладбища. Идем вдоль села, едва узнавая знакомые дома. Как безобразно разъезжена вся улица! А вон, смотри, у дома с тюлевыми занавесками — новенькая «Волга» с горьковским номером. А у другого дома — «жигули». Подумать только, в Ландехе! А как ужасен собор! Сильно продвинулась работа разрушения за тридцать лет. На мое предложение войти под остатки сводов, Саня мрачно отвечает: «Нечего там делать». Идем дальше. А это что же? Неужели бабушкин дом? Он и не он. Какой-то стал жалкий, словно ощипанный. А… снесен двор, составлявший с домом одно целое. Не нужен стал? Скотины не держат. И ветви папиных кленов коротко подпилены. Чтобы света не заслоняли? На бабушкином крыльце стоит женщина, неодобрительно взирает на наше глазенье. И не здоровается, и не любопытствует узнать, что же за такие чужие забрели. И это в Ландехе?
От бабушкиного дома до кладбищенской церкви рукой подать, вот уже блеснула ее золотистая маковка. Здесь все, как было, все, как прежде, только могил прибавилось, теснее стало. Постояв у родных могил, наши спутники куда-то разбредаются, у всех дела есть в селе. У нас нет здесь дел, и мы с мамой и Павлом садимся на травянистый холмик у церкви и долго вспоминаем прошлое. Павел сипит мне в ухо: «Если бы ты знала, как лихо нам пришлось после войны! Какой был голод! Я сразу в город подался, а там тоже голодно, да и квартиры нет, а у меня ребятишки пошли один за другим. И почему не остался я после войны в Молдавии? Я там кончил войну. Теплый, сытый край». Чтобы отвлечь его от мрачного прошлого, я спрашиваю: «Ну а теперь-то как?» — «Теперь хорошо. Ребята выросли, у меня их четверо. Все — электромонтеры-верхолазы. Работа опасная, но ведь и платят же за нее». Про его болезнь не говорим.
На обратном пути из Ландеха я спрашиваю у Павла, есть ли теперь тут магазин. Как не быть, ведь здесь леспромхоз. То-то леса все свели, думаю я, то-то дорога разъезжена до безобразия. В магазине есть продовольствие, какого и в Москве не всегда достанешь. И мало покупателей. Мне объясняют: товар-то дорогой, мало у кого такие деньги водятся, чтобы в будни рис и консервы покупать, а вот пшена нет, мяса не бывает, и хлеб редко привозят, да и не знаешь, привезут его или нет. Случается, по пять часов ждут.
Я покупаю рис («сорочинское пшено» называли его раньше в Ландехе), консервы, конфеты и несколько бутылок столичной водки. Как жадно Санины руки тянутся к этим бутылкам. Она мгновенно хватает их и тут же лезет в подпол прятать прозрачную добычу. Потом объясняет мне: мужики выпьют, что ни поставишь, хватит с них самогона, припасенного к приезду гостей. А этими, покупными, дорогими, будет она расплачиваться с трактористами, что вспашут ей огород, что дров привезут из леса. Ей на сорокарублевую пенсию таких бутылочек не купить. Водка в деревне, — понимаю я, — драгоценная валюта.
За обедом на столе действительно много самогона. Я не сразу заметила, что пока наша мама увлеченно рассказывает молодежи — Кате, ее сестре Ане и Аниному мужу Володе — о прошлом Ландеха, старшие мужчины куда-то исчезли. Я только к вечеру узнаю, что случилось. Саня долго молчит, поджав губы, прежде чем признаться: мужчины напились и Саня отправила их в баню отсыпаться. А утром она потребовала от брата, чтобы он тут же возвращался к себе в Гороховец, раз не умеет при таких гостях себя вести. Так я больше никогда и не видела Павла Одувалова. Жаль. Я бы простила ему такой ординарный российский грех. «А что, Саня, сильно он пьет?» — «И-и-и, не говори, просто беда», — только и ответила Саня. Но обиделась на него крепко, никогда ни в одном письме имени его не поминала и поклонов от него не передавала. Видно, и она мечтала о предельном благообразии этого родственного свидания. Он к ее возмущению его нарушил. И уж потом, после Саниной смерти, когда я спрашивала у гороховецкой Нины о Павле, она в письме ко мне отвечала уклончиво, храня материнскую обиду: «Жив. Что ему сделается? А только Черепки они и есть Черепки». Черепки — деревенское прозвище Одуваловых. Что оно в себя вмещает, мне до конца не дано было понять. Что-то неодобрительное: вспыльчивость, упрямство, может быть, и накопительство? Но только не пьянство. Сам Макар Антонович пил очень аккуратно и только по большим праздникам.
И вот мы остаемся с мамой в узком семейном кругу волковских родственников — Александры Макаровны, Дмитрия Ивановича и гороховецкого их внука десятилетнего Коли, живущего у бабушки летом. Аня и Володя с ребенком, прихватив к себе в гости Катю, отбывают в свое Мугреево. Впрочем, оттуда время от времени Володя прилетает в деревню кружным путем на своем мотоцикле. Володя — заметная фигура в местном масштабе: в свои двадцать с небольшим лет он — председатель Мугреевского сельсовета. Аня — учительница там же. Все дети Александры Макаровны получили среднее образование, грамотны. Но мне легче со стариками. Молодые мои родственники насторожены и отчуждены от нас. Одна Нина была явно рада нашему приезду, она помнит нас с детства, она чтит, по завету матери, нашего покойного отца. А младшие, кажется, разочарованы и моими подарками. Я заметила легкую презрительную усмешку Кати, рассматривавшей вместе с сестрой трикотажное платьице, купленное мною для нее в магазине «Синтетика». Не понравилось. И то, что я хожу в деревне в простом открытом ситцевом платье, тоже не нравится: не нарядно, не по-столичному? А, может, напротив, и ей надо было привезти простое и ситцевое? Кто их здесь поймет?
Я заметила в тот приезд нечто похожее между отношениями деревенских жителей к нам, столичным гостям, с отношением нас, российских жителей, даже и столичных, к заграничным гостям. Подарки принимаем с удовольствием, но знаем их незначительную для них, одаривающих, цену. Чуть-чуть им невольно завидуем — богатству, комфорту, свободе передвижения, но и чуть-чуть в глубине души презираем за незнание почем фунт лиха нашего, российского лиха. Стараемся перед ними выглядеть богаче и счастливее, чем есть, и прекрасно знаем тщетность наших стараний. Наше прославленное гостеприимство — что же иное, как не такое старание?
В одном из вечерних разговоров на завалинке примчавшийся на мотоцикле Володя, к слову, сказал: «Москва ведь высасывает из нас все соки. Мы все, вся страна, работаем на Москву». Ого, я такого еще не слышала! Я и не подозревала силы антагонизма между провинцией и столицей. Он проступил не только в самих словах, но и в искривившихся обидой губах Володи. «Ты так думаешь?» — спросила я, а про себя усмехнулась: «Да что с вас высосешь? Посмотри на свои поля, заросшие сорняками!»
В Волкове — новшество: возле избы построена деревянная будочка-уборная. Раньше ходили буквально «на двор», где стояла скотина. Вокруг будочки — высоченная густая крапива. Я как-то невзначай да и скажи при Дмитрии Ивановиче: «Ну и крапива у вас вымахала!» Наутро смотрю: выкошена крапива. Раньше она считалась первым признаком бесхозяйственности и упадка. Вот он, почти слепой, и устыдился. А у меня и в мыслях ничего такого не было.