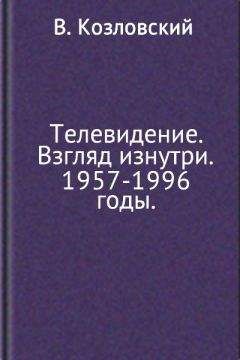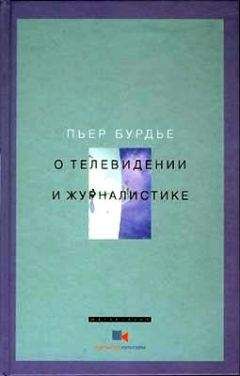Леон Островер - Петр Алексеев
Но это еще не все: громко, на всю страну, он сказал угнетателям, что они враги народу и что рано или поздно обрушится на их голову рабочий кулак. Он вселил в душу угнетателей страх, а товарищи, оставшиеся на воле, сумеют использовать этот страх для народного дела.
«Товарищи, оставшиеся на воле»… Каждый раз, когда он думает о них, встает перед глазами Прасковья — девушка с большими серыми глазами, тяжелой косой и материнским сердцем. Она была всем: кухаркой для «коммунаров», матерью для бездомных детей, а для него, для Петра Алексеева, бесконечной радостью. В те скупые недели их дружбы ему казалось, что из-за горизонта уже проглядывает новая жизнь и что он с Прасковьей идет в этот новый мир, чтобы жить там, никогда не расставаясь.
До нового мира они не дошли: он ждет отправки на каторгу, а она…
Но это только остановка. Надо сохранить в сердце облик Прасковьи и ее теплоту! Надо готовиться к встрече с нею, чтобы при первом свидании не затуманились глаза, не дрогнул голос!
Жарко, душно. Алексеев стоит у окна.
Несколько ласточек реют в поднебесье. Вдали дымят фабричные трубы. Ослепительно сияет золото на высокой колокольне. Бесконечные ряды крыш: зеленых, красных, серых. По тюремному двору гуляют арестанты; многие босиком, в одном белье. На площадке — надзиратели. Один из них смотрится в маленькое зеркальце.
Вдруг шум. Худой, как палка, генерал с седыми обвислыми усами кричит сдавленным, злобным голосом:
— Так ты не хочешь мне кланяться? Ты не знаешь, кто я?!
Перед ним стоит студент. Форменная фуражка сдвинута на затылок, тужурка накинута на левое плечо. Его лицо пылает.
Мелькнула в воздухе рука генерала, и фуражка слетела с головы студента.
Юноша остолбенел. Он смотрел на генерала широко раскрытыми глазами.
И это безмолвие жертвы привело генерала в неистовство; он дико заорал:
— Розог!
Надзиратели накинулись на студента, потащили его в контору. Особенно усердствовал тот, что смотрелся в зеркальце: он таскал студента за волосы.
Прошла минута-две, и тюрьму, словно громом, потрясло: в камерах били ногами в дверь, гремели чайниками, ломали столы, выбивали окна, и в этом хаосе резких звуков слышалось одно только слово: «Палачи! Палачи!»
Алексеев долго не мог успокоиться. Все, что можно было разрушить, он разрушил: табурет и стол — в щепы, оконное стекло — вдребезги.
Он присел на край кровати и задумался. Все камеры в разгроме. Но борьба ли это? Неужели могут революционеры защищать свое человеческое достоинство битьем стекол?..
Много месяцев спустя Петр Алексеевич понял, почему «битье стекол» 13 июня вызвало у него тяжелое раздумье. Студент Боголюбов не заметил градоначальника Трепова, да если бы и заметил, то какое дело ему, осужденному на каторгу человеку, до разгуливавшего по тюремному двору генерала? Царский любимец Трепов не стерпел невнимания к себе. Он приказал высечь студента Боголюбова. Тюрьма ответила на розги битьем стекол, молодежь на воле ответила выстрелом Веры Засулич, а Россия — оправдательным приговором: суд как бы благословил те две пули, которые Вера Засулич всадила в грудь царского любимца Трепова.
Но Петр Алексеевич не оправдывал выстрела Веры Засулич. Ему не жалко было генерала, гроша ломаного не отдал бы, если бы от этого зависела жизнь Трепова, только стрелять в него не стал бы Петр Алексеев. Стрельбу в царских приспешников считал он нереволюционным делом!
Декабрьским утром 1877 года Алексеева повели в контору. Там собрались офицеры, судейские в штатском и кузнец, державший в руке небольшой молот. У двери торчал усатый жандарм.
— Садись на пол, — тихо сказал кузнец, когда Алексеев поравнялся с ним.
Алексеев опустился на пол.
Кузнец молча, с лицом угрюмо-сосредоточенным придвинул к себе наковальню, достал откуда-то кандалы и приступил к работе. В комнате было тихо, и в этой тишине с необычайной резкостью звучал стук молота о наковальню.
— Встань, — промолвил кузнец, когда кандалы были заклепаны.
Алексеев встал, растерянно улыбнулся и сказал:
— Неловко.
— Привыкнешь, — шепотом откликнулся кузнец и виновато, с опущенными глазами, добавил: — Все привыкают.
И Алексеев понял, что среди всех собравшихся в этой мрачной комнате единственный он, кузнец, ему сочувствует.
— Коваленко! Прими! — бросил один из офицеров.
Усатый жандарм подошел к Алексееву и, глядя куда-то вбок, буркнул сиплым голосом:
— Пошли.
Петра Алексеевича отправили обратно в камеру. Непрерывный звон кандалов будил его по ночам, непривычная тяжесть мешала ему двигаться, думать…
27В последних числах декабря, около десяти часов утра, повезли Петра Алексеева в пересыльную тюрьму. День был снежный, стекла тюремной кареты покрылись лапчатым узором.
Вдруг карета остановилась. Офицер, сопровождавший арестанта, раскрыл дверцу.
Алексеев выглянул. Они на Литейном проспекте. Улица запружена народом. Конные жандармы, заснеженные и похожие на мраморные монументы, наседают на толпу, отжимают ее к Бассейной. Алексееву бросилось в глаза обилие цветов. Люди стояли так тесно, что им пришлось держать цветы в вытянутых вверх руках. И еще успел заметить Алексеев: толпа состояла почти из одной молодежи. Вдали, на Бассейной, кто-то произносил речь; где-то рядом вскрикнула девушка; четко прозвучала солдатская ругань.
— По какому случаю народ собрался? — справился офицер у подскочившего на рысях жандарма.
— По случаю похорон, ваше высокородие!
— А кто помер?
— Сочинитель Некрасов, ваше высокородие!
— Некрасов помер?! — воскликнул Алексеев.
В этом выкрике послышалась такая боль, что офицер, повернувшись, сначала недоуменно взглянул на арестанта и лишь потом, нагло ухмыляясь, издевательски промолвил:
— Вы интересуетесь и поэзией?
Ответа на свой вопрос офицер и не ожидал. Он крикнул кучеру:
— Пошел в обход! — и захлопнул дверцу.
Петру Алексеевичу тяжело. Сердцу тесно в груди, ком стоит в горле.
Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь…
Иди и гибни безупречно.
Умрешь не даром: дело прочно,
Когда под ним струится кровь.
«И поэт, написавший эти слова, ушел из жизни!.. — подумал Алексеев. — Ушел из жизни тот поэт, который, умирая, прислал в тюрьму прощальное слово! «Я с тобой, Петр Алексеев», — хотел он сказать».
Тут же родилась новая мысль: «Но этот же поэт, этот друг угнетенных сказал еще и другое:
Покажет Русь, что есть в ней люди,
Что есть грядущее у ней.
— И я еще буду бороться за это грядущее! — сказал Алексеев вслух, чем опять вызвал усмешку офицера.