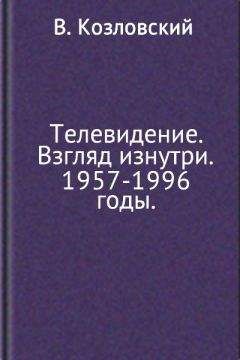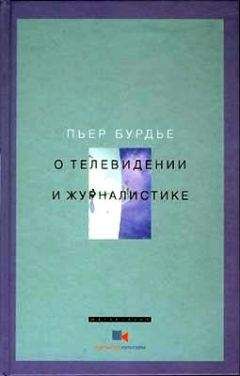Леон Островер - Петр Алексеев
Петерс вскочил; красный, потный, он заорал:
— Выведите его!
Но истошный возглас Петерса не смутил Петра Алексеевича, наоборот, он сжал свой кулак и угрожающе протянул его к царскому портрету:
— …и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!
После минутного затишья загрохотало в зале, как в горах во время обвала. Неистово аплодировали на скамьях подсудимых. Защитники, вскочив с мест, разразились оглушительным «браво». На хорах топали ногами, кричали «ура».
Сенаторы и министры, прикрыв ладонями головы, точно внезапно закапало с потолка, бросились гурьбой к выходу. Вслед за ними, подталкивая друг друга, последовали и судьи. Князь Мингрельский, столкнувшись в дверях с Петерсом, любезно уступил ему дорогу и сокрушенно промолвил:
— Ваше высокопревосходительство забыли объявить заседание закрытым…
Петр Алексеевич все еще стоял с поднятой рукой.
К нему ринулись товарищи, поздравляли его, обнимали.
Алексеев не разглядел отдельных лиц — все слилось в его глазах. Только один раз ясно проступило тонкое лицо Бардиной: она плакала. От усталости или от не изжитого еще волнения голос Петра Алексеева неестественно дрогнул, когда он, положив свою огромную руку на руку Бардиной, сказал:
— Успокойтесь, голубушка.
Рачьи глаза Александра II оторопело смотрели с портрета.
Сенаторы и министры быстро справились со своим страхом. Они прогнали народ с хоров, усилили караулы, теснее сомкнули кольцо жандармов вокруг обвиняемых, и Петерс опять уселся в председательское кресло.
Суд продолжался.
Четырнадцатого марта вынесли приговор.
Цицианов, стрелявший во время ареста в офицера, был присужден к 10-летней каторге, остальные приговорены к каторжным работам на сроки не выше шести лет. Алексеев же был приговорен к высшему сроку, к такому же, как и Цицианов.
Десять лет каторжных работ человеку, против которого почти не было улик! Жестоко и беззаконно даже для того времени! Десять лет каторги за речь, произнесенную на суде!
Речь ткача Петра Алексеева разнесли по столице. Адвокат Спасович рассказывал вечером в клубе:
— Не только публика и судьи, но даже жандармы окаменели. Я уверен: если бы Алексеев после речи повернулся и вышел, его бы в первую минуту никто не остановил — до того все растерялись.
Ночь провел Алексеев без сна. В отяжелевшей голове его несвязно всплывали обрывки мыслей, бесследно уносясь, как листья во время бури. Но на душе было покойно. Прошлое отошло, а будущее еще не наступило. Это была передышка, мертвый период между бурным, деятельным прошлым и грозным, мрачным будущим.
В камере было уже светло. Солнце прорвалось сквозь решетку.
Бессознательно поддавшись нежной ласке теплых лучей, Алексеев подошел к окну и жадно стал вдыхать утренний воздух.
Свежесть весеннего утра оживила Петра Алексеевича. Тело, так недавно казавшееся разбитым словно тяжелой болезнью, теперь выпрямилось. И когда в коридоре раздался возглас: «Кипяток!» — в лице Алексеева уже трудно было подметить следы пережитого волнения.
К обеду опять ворвалась в его камеру живая жизнь — та жизнь, которая в его сознании уже теплилась, как далекое воспоминание.
Раскрылась дверь, и в камеру вошел смотритель тюрьмы. Он положил на стол конторскую книгу и, подавая Алексееву карандаш, сказал:
— Тут нужно расписаться.
— В чем расписаться?
— В получении пакета.
Смотритель достал из книги большой продолговатый конверт из белой плотной бумаги. Бисерным женским почерком было написано:
«Тюрьма, что на Шпалерной, господину Алексееву Петру Алексеевичу от Некрасова Николая Алексеевича».
Алексеев, прочитав написанное, удивленно взглянул на смотрителя.
— Знакомец? — спросил тот.
Алексеев не ответил, он достал из конверта твердый, как картон, листок. Старческой или больной — неуверенной, дрожащей — рукой было написано:
Смолкли честные, доблестно павшие,
Смолкли их голоса одинокие,
За несчастный народ вопиявшие,
Но разнузданы страсти жестокие.
Вихорь злобы и бешенства носится
Над тобою, страна безответная.
Все живое, все доброе косится…
Слышно только, о ночь безрассветная,
Среди мрака, тобою разлитого,
Как враги, торжествуя, скликаются,
Как на труп великана убитого
Кровожадные птицы слетаются,
Ядовитые гады сползаются!
— Говорят, умирает Некрасов, — сказал смотритель.
— Умирает?! Николай Алексеевич!..
— Так говорят. — Смотритель подошел к двери, крикнул в коридор: — Фролов, скажи, чтобы вносили!
Надзиратель принес тяжелые корзины: фрукты, колбасы, торты, конфеты, папиросы, сигары, цветы.
После первых корзин вносили еще и еще…
Алексеев смотрел на груды соблазнительно-вкусной снеди, лежавшей на столе, на койке, на табурете. Из глаз его текли слезы, а губы беззвучно шептали:
Смолкли честные, доблестно павшие,
Смолкли их голоса одинокие…
Нет, не смолкли голоса одинокие! Текст речи Петра Алексеева, тайно отпечатанный различными революционными группами, разошелся в тысячах экземпляров; и как камень, брошенный в воду, рождает все увеличивающиеся круги, так и эта речь рождала отзвуки в самых отдаленных местностях необъятной России.
Речь Петра Алексеева стала знаменем, вокруг которого собираются бойцы для атаки; она стала набатом, зовущим в бой за правое дело; она стала программой для целого поколения молодежи — их убедило мужество Петра Алексеева, молодежь поверила, что «ярмо деспотизма разлетится в прах»!
Революционизирующее действие речи было так велико, что государственный канцлер князь Горчаков именно из-за нее объявил «устройство публичного и гласного процесса» непростительной ошибкой.
26Монотонно текла жизнь Петра Алексеева. Он читал, шагал вдоль своей узкой клетки. Когда его обостренный слух улавливал какие-нибудь новые звуки, он останавливался, ожидая чего-то, уставясь на оконце в двери. Но проходила минута за минутой, звуки, вызвавшие его настороженность, замирали, и Алексеев опять принимался ходить мерными шагами.
Ему хотелось глубже поразмыслить над основами жизни. Он рано понял, что все жизненное зло проистекает от людской темноты и что темнота народа на руку угнетателям. Просветить народ, объяснить ему причину жизненного зла — вот задача, которую он поставил перед собой. А чего достиг? К сожалению, Алексеев рано попал под колеса царской машины, но и в короткий срок своей деятельности он кое-что сделал, Не в один десяток сердец он заронил ненависть к угнетателям.