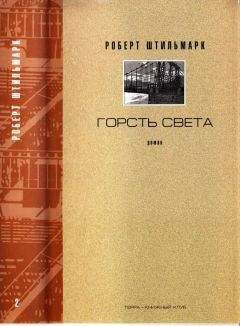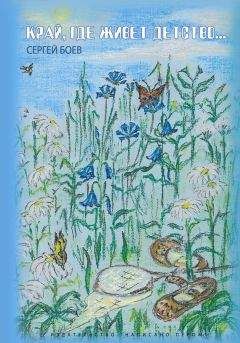РОБЕРТ ШТИЛЬМАРК - ГОРСТЬ СВЕТА. Роман-хроника Части первая, вторая
Девятилетний Роня обрел здесь первого друга, только не однолетка, не сверстника. Мальчика сразу потянуло к соборному священнику отцу Ивану, с первой улыбки и приветливого взгляда. Был отец Иван очень красив, с тонкими, но очень сильными пальцами, шелковым отливом каштановых волос, музыкальным голосом, похожим на папин, но повыше. Происходил он из строгой дворянской семьи, окончил Духовную академию, но отказался от легкой столичной карьеры. Сам напросился ехать служить в заволжское село. О нем по-соседству прослышала решемская игуменья и уговорила перейти в женский монастырь. Было это еще до войны.
Война же эта чадила и грохотала вот уж четвертый год, и все глубже вязли расписные спицы российской тройки в безнадежно разъезженные военные колеи! Уже нетерпеливо дыбились кони, а возница по-прежнему понукал их вперед, в гиблое месиво фронтов. Правил теперь российской государственной колесницей Александр Федорович Керенский, адвокат и эсер. Мама отзывалась о нем с пренебрежением и злостью: ни Богу свечка, ни черту кочерга! Не такой, мол, надобен глава — молодой, неокрепшей российской демократии! Немецкая же армия, терпя поражения на Западе, мнила возместить их тупым, роковым нажимом на Востоке, грозя надломить самые опоры новой России. Когда же Александр Федорович побудил Ставку Верховного Главнокомандования предпринять отчаянное летнее наступление против немцев под Тарнополем, германский Генеральный штаб ответил сокрушающим контрударом, разгромившим русский юго-западный фронт. Войска этого фронта откатились далеко назад, и более 60 тысяч российских защитников угодили тогда за колючую проволоку немецких лагерей для военнопленных.
Не успела русская армия оправиться от этого потрясения, как на западном фронте генерал Корнилов сдал германской армии Ригу, открывая фланг для удара по Петрограду. Сделано это было с глубоким расчетом, но Керенский не смог или не захотел понять его. Совесть и государственные интересы России, как он понимал их, не позволили ему пойти на сговор с мятежным генералом или на сделку с противником. Зато как быстро преуспели на этом поприще сменившие его правители...
Дурные вести с полей сражений доходили с опозданием до жителей Решмы. Задерживались и папины письма, поступавшие из Галиции. Писал он все короче и туманнее, понятно было лишь, что командует теперь бригадой гренадеров-артиллеристов и находится на передовых. Отец Иван научил Роню молиться за папу и его солдат русскими молитвами. Мальчик верил в их спасительную силу, в отличие от молитв немецких, лютеранских, которые, по здравому размышлению, могли помогать только Вильгельму. Решемский священник часто брал мальчика в алтарь монастырского собора, где Роня с замиранием сердца следил за священнодействием у престола, приготовлениями к таинству причащения и сам причащался первым.
Отец Иван именовал мальчика не Рональдом, а Романом и советовал Ольге Юльевне не идти против желаний сына и торжественно свершить над ним обряд православного крещения по всем правилам. Ольга Юльевна же отнекивалась, говорила, что такой выбор требует рассуждения более зрелого, но, впрочем, добавляла, будто обряд православного крещения только без всякой торжественности, уже был над Роней совершен в дни его младенчества, когда его, полугодовалого, впервые привезли в Решму и предшественник отца Ивана, прежний соборный батюшка-благочинный, по собственному разумению «перекрестил» лютеранского младенца. Выходило, будто именно тогда и наречен был мальчик благоносным именем Роман — во славу преподобного сладкопевца, о чем даже совершена была и запись в церковных книгах. В присутствии Рони родители намекали на это странное обстоятельство как-то смутно и обиняком, прямых вопросов избегали, и Роня чувствовал, что неопределенность эта связана с родительскими тревогами о будущем. Мол, при надвинувшихся событиях мыслимо ли предусмотреть, куда еще занесут ветры судьбы утлую семейную ладью и разумно ли поощрять детские Ронины склонности, если они могут пойти вразрез с вековыми традициями рода Вальдеков и семейства Лоренс?
Отцу Ивану вся эта неопределенность не нравилась. Склонности же Ронины едва ли можно было считать совсем уж детскими.
В Решме у него появилось смутное чувство духовного освобождения. Будто ослабевала над ним власть внутренне чуждой ему традиции, унаследованной от поколений балтийских и германо-скандинавских предков. Традиции эти отзывались в Рониной душе тревожными вагнеровскими фанфарами, неясными картинами готических башен и дальним звоном норманнских мечей. И, верно, именно оттуда, из этого средневекового сумрака, перекликаясь с вещим предчувствием всемирнокровавого завтра, тянулись к мальчику по ночам пугающие призраки, страшные сплетения тьмы прошлой и будущей.
Но здесь, в волжском селе, мальчик на свое счастье очутился в тогда еще нетронутом деревенском царстве русского православного духа, слитого с русской природой. Волжские деревни — самые независимые на Руси, самые вольные, не считая особо привилегированных областей, вроде казачьих. Волжанам как-то ничего не навязывали: ни убеждений, ни верований, ни привычек. В волжанах все было органично, от природы. Люди не притворялись добрыми — они ими были.
Вместе с чувством слияния, единения с этим народом, с духом и верой родины, мальчик ощутил и полное избавление от ночного гнета, от своих неотвязных кошмаров, снов и галлюцинаций. Помог этому, конечно, и отец Иван.
Решемский пастырь серьезно отнесся к Рониным признаниям на исповеди. Понял он главное: у мальчика нет духовной опоры, чтобы одолеть свои наследственные и провидческие мучения. И, как символ раскрепощения духа из-под власти тьмы, он подарил мальчику афонскую реликвию.
Это был восьмиконечный крестик из кипариса, окованный узкой серебряной лентой. В нижнюю перекладину у прободенных ступней Спасителя вделана была частица мощей преподобного Афанасия. С минуты, когда отец Иван благословил духовного сына этой реликвией, Роня поверил в свое раскрепощение от страхов. Он даже полюбил тишину и величие ночи.
* * *
В середине сентября 1917 года Ольга Юльевна вернулась в свою новую ивановскую квартиру. Марья и Зина не слишком потрудились к приезду хозяйки. Вопреки полученным ими хозяйственным распоряжениям из Решмы, квартира имела почти тот же вид, что и при отъезде семьи на Волгу. Кресла и рояль в гостиной стояли в чехлах, даже с постелей не убрали пропыленных за лето пологов, а на обеденном столе лежало непривычное покрывало с аппликациями, не парадная скатерть, а безобразная зеленая клеенка, как у иных волжских мужиков побогаче. Мама рассердилась было, потом махнула рукой...