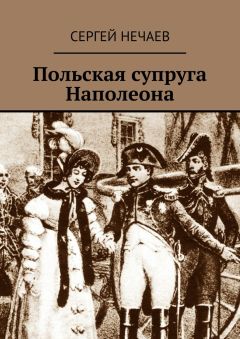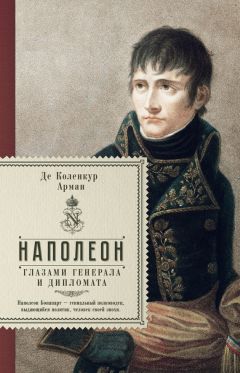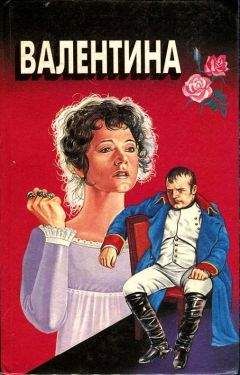Фредерик Массон - Наполеон и женщины
«Н.»
Но что бы ни было въ этомъ письме, ее не заставятъ принять брилліанты, ни даже цветы, ни даже лавры. У нея есть готовое оправданіе: букетъ на груди полагается только на балахъ, а она едетъ на обедъ. Избавиться же отъ этого обеда у нея нетъ никакой возможности. У всехъ окружающихъ ее головы идутъ кругомъ, все охвачены честолюбивыми замыслами; ея семья опъянена, ея мужъ попрежнему совершенно слепъ: онъ не имеетъ ни малейшаго представленія о той игре, которая ведется вокругъ него, и более горячо, чемъ кто-либо, жаждетъ новыхъ почетныхъ приглашеній.
Она является; все бросаются къ ней, смотрятъ на нее, представляются ей. Ей кажется, что все эти незнакомые люди знаютъ, что произошло накануне. Императоръ уже здесь. Онъ, видимо, чемъ-то недоволенъ; онъ хмуритъ брови; онъ смотритъ на бедную женщину злымъ взглядомъ, – пронзительнымъ и испытующимъ, мечущимъ молніи.
Вдругъ она видитъ, что онъ быстро направляется къ ней; вся дрожа при мысли, что здесь, на глазахъ у всехъ, можетъ произойти какая-нибудь сцена, какая-нибудь непоправимая вспышка, она опоминается и прикладываетъ руку къ тому месту, где долженъ былъ быть букетъ. И сразу выраженіе лнца его смягчается, гаснетъ пламя въ глазахъ, рука отвечаетъ подобнымъ же знакомъ и, передъ темъ, какъ пройти къ столу, онъ подзываетъ Дюрока и что-то говоритъ ему на ухо.
Лишь только она села, какъ и на предыдущемъ обеде, рядомъ съ маршаломъ, последній начинаетъ упрекать ее за то, что на ней нетъ букета; но она отвечаетъ наступленіемъ по поводу брилліантовъ: она не приметъ никакого подарка въ этомъ роде, пусть это будетъ известно разъ навсегда! Какъ могла бы она осмелиться только показаться съ этими украшеніями? Одно только могло бы дать удовлетвореніе ея чувствамъ обожаній и преданности – это надежда на лучшее будущее для ея страны. «Разве Императоръ, – отвечаетъ Дюрокъ, – не далъ вамъ этой надежды? И онъ напоминаетъ о целомъ ряде актовъ, которые уже и теперь значатъ больше всякихъ обещаній. А что касается того, любитъ ли онъ ее, такъ разве она можетъ въ этомъ сомневаться? И сейчасъ, какъ разъ, онъ смотритъ только на нее. Въ то время, какъ онъ занятъ, повидимому, исключительно общимъ разговоромъ, вопросами, которые онъ задаетъ, и ответами, которые получаетъ, онъ не перестаетъ держать руку на сердце. Онъ только что подзывалъ къ себе. Дюрока, сказалъ ему что-то на ухо; онъ просилъ его непременно напомнить ей, что она обещала придти вечеромъ. И потомъ, – разсужденія о тщете величія, о потребности такого Государя, какъ Императоръ, иметь около себя сердце, которое понимало бы его, о томъ, какъ прекрасна эта миссія, выполнить которую хотела бы каждая женщина…
Она пришла одинъ разъ, она должна придти опять. Принимаіотъ те же лредосторожности я точно такимъ же образомъ везутъ ее. Она входитъ. Онъ мраченъ, озабоченъ. «Наконецъ, вы – здесь, – говоритъ онъ, – я уже не надеялся увидеть васъ». Онъ снимаетъ съ нея плащъ, беретъ у нея шляпу, усаживаетъ въ кресло, потомъ, стоя передъ нею, требуетъ у нея одравданій. Зачемъ она ездила въ Броне? Зачемъ она старалась заронить въ него чувство, котораго сама не разделяла? Почёму она отвергла его цветы, даже лавры? Что она съ ними сделала? Онъ связывалъ съ ними надежду провести столько интересныхъ минутъ, и она его лишила ихъ. Его рука все время лежала на его сердце, а ея рука была неподвижна; только одинъ разъ она ответила. И въ бешенстве ударивъ себя по лбу, онъ крикнулъ ей: «Вотъ она – Полька! Вы подтверждаете мой взглядъ на вашу націю!»
Глубоко взволнованная такимъ пріемомъ, страшно смущенная этими словами, она робко проситъ: «О, Государь, рада Бога, скажите мне вашъ взглядъ».
И онъ говорятъ тогда, что считаетъ Поляковъ увлекающимися и легкомысленными. Bсe y нихъ делается изъ прихоти, у нихъ ни въ чемъ нетъ последовательности. Ихъ пылкій энтузіазмъ шуменъ и порывистъ, они не умеютъ управлять имъ, не способны сделать его стойкимъ. И этотъ портретъ – ея портретъ. Разве не полетела она, какъ сумасшедшая, взглянуть на него при его проезде? Онъ отдалъ свое сердце за этотъ нежный взглядъ, за эти страстныя слова, а она – она скрылась.
Сколько онъ не искалъ ее, онъ не могъ найти и когда она, наконецъ, пришла – одной изъ последнихъ – она была холодна, какъ ледъ. Пусть же она знаетъ: каждый разъ, когда онъ считалъ какую-нибудь вещь невозможной, онъ желалъ ее еще более страстно. Ничто не можетъ остановить его. Сама по себе мысль о невозможности разжигаетъ въ немъ страсть, и онъ продолжаетъ наступать. Онъ привыкъ, чтобы все съ готовностью уступало его желаніямъ, сопротивленіе, которое она ему оказываетъ, доставляетъ ему страданіе.
Мало по малу онъ воспламеняется; гневъ – подлинный или показной – туманитъ ему голову: «Я хочу, пойми ты это, хочу заставить тебя любить меня! Я возродилъ имя твоей родины: ея стволъ стоитъ еще благодаря мне. Я сделаю больше. Но знай: такъ же, какъ эти часы, – которыя у меня сейчасъ въ руке и которыя я разбиваю на твоихъ глазахъ, – такъ же, какъ они, погибнетъ ея имя и все твои надежды, если ты доведешь меня до крайности, отвергнувъ мое сердце и отказывая мне въ твоемъ».
Передъ этимъ бешенствомъ, передъ этими угрозами, при виде часовъ, разлетевшихся вдребезги, бедная жешцияа, какъ снопъ, падаетъ на полъ… Когда къ ней возвращается сознаніе, она уже не принадлежятъ себе. Онъ около нея, вытираетъ ей слезы, которыя капля за каллей текутъ у нея изъ глазъ.
Отныне – это связь, если можно такъ назвать ея обыкновеніе каждый вечеръ являться во дворецъ, съ пассивной покорностью принимать ласки, за которыя она ждетъ награды; если она и отдалась или, вернее, позволила взять себя, то не за такіе пустяки, какъ назначеніе временнаго правителъства, созданіе эмбріона арміи и присоединеніе несколькихъ ротъ легкой кавалеріи къ охране французскаго Императора. Плата, которая только и могла бы удовлетворить ее, которая могла бы оправдать ее въ ея собственныхъ глазахъ, это – возстановленіе Полъши, какъ націи и Государства. He умея притворяться, казаться любящей, когда сердце не испытываетъ ничего, не умея симулироватъ страсть, которой не знала ея целомудренная душа, она не имеетъ никакихъ данныхъ, чтобы подчинить себе любовника и руководить имъ, и не способна даже скрыть отъ него, каковъ единственный стимулъ, которому она повинуется. Каждый вечеръ она сводитъ разговоръ на то, чемъ постоянно занята ея мысль; ее утешаютъ, обнадеживаютъ, даже обещаютъ, но все – въ счетъ будущаго, будущаго, мучительную пытку котораго она предвидитъ, не видя ей конца.
И это не потому, что она встречаетъ осужденіе со стороны окружающихъ ее. За исключеніемъ мужа, котораго она вынуждена была оставить, все наперебой ухаживаютъ за нею, не какъ за фавориткой, а какъ за жертвой, потому что ни для кого не тайна, какъ она страдаетъ, и насколько она заслуживаетъ уваженія, почтенія и сожаленія. Родныя сестры ея мужа, княгиня Яблоновская и графиня Биргинская, берутъ ее подъ свое покровительство. Если бы она захотела, то могла бы занимать въ Варшаве первое место и, будь она иной, она была бы тамъ царицей. Тогда она имела вы враговъ, теперь же, такъ какъ она держится въ тени, ея не боятся, ей меньше курятъ фиміамъ, но зато относятся съ большимъ сочувствіемъ.