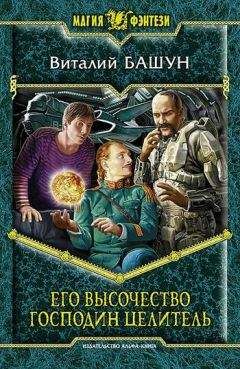Н Скавронский - Очерки Москвы
— Да… жал, знаете, эдак, она даже вскрикнула два раза.
— Потом ударил?
— Толкнул ее от себя.
— Это все равно… И она заплакала?
— Да, по-видимому: закрыла глаза фартуком.
— Ну, да, да! — плакала, плакала! Ах, как бы нам повидать ее? Знаете что, молодой человек, пойдемте к ней вместе, когда она воротится, сделайте мне это одолжение, мне одному-то неловко эдак, неловко, знаете.
Мне и самому хотелось увидать Лизу, а потому я охотно согласился. Старикаша (так мы его звали в то время) пожал мне руку и с напряженным вниманием стал смотреть в ту сторону, откуда должна была показаться Лиза.
Вскоре она действительно пришла, одетая, как и обыкновенно, нарядно и щеголевато, и, по-видимому, как ни в чем не бывало, как и всегда, несколько задумчивая и вялая.
— Пойдемте! — обратился ко мне старикаша, взяв меня за руку и как-то судорожно сжав ее. — Пойдемте!
И он, оглядываясь робко по сторонам и как бы боясь, чтобы кто не увидел его, хотя Сокольники были еще совсем пусты, стал вместе со мною пробираться к тому месту, где стояли столы Лизы.
— Пойдемте, батюшка, пойдемте! Утешим ее! Мы подходили уже к ней; Лиза накрывала стол цветной салфеткой и украдкой смотрела на нас. Старикаша поместился на самой ближней к выходу, принадлежавшей ей, скамейке.
Как бы это, батюшка, позвать ее сюда, а, как бы это? Закурите-ка, подите, у ней папиросочку, как вы это всегда делаете, и шепните ей, чтоб пришла, пусть для виду, и самоварчик нам поставит.
Я подошел к Лизе. Она приняла меня очень недружелюбно.
— Что вы лезете, ну что вы лезете ко мне? — обратилась она ко мне.
— Чего ты злишься, Лиза? Самовар нужно.
— Ну подам; уйдите только Христа ради, Христа ради уйдите!..
— Да что с тобой, скажи на милость?
— Ах, да уйдите, уйдите от меня!
Она как-то робко оглядывалась… Я взглянул в сторону — невдалеке от этого места, около пустого, еще не покрытого стола, сидел давешний детина «сигары-папиросы», он, по-видимому, спал или притворялся спящим: кудрявая голова его покоилась на локтях, которыми он расположился на столе, пред ним стоял недопитый полуштоф, на траве рядом валялся его ящик с сигарами, который обнюхивали две-три сбежавшиеся собаки.
«А, вот оно что!» — подумал я и подошел к старику.
— Он здесь! — шепнул я ему.
— Кто он?
— Ну, вот эти «сигары-папиросы».
— А! Где же он, где?
— Вон там, у стола.
— Можно на него посмотреть?
— Я полагаю… пойдемте.
— Да он ничего… ничего он?
— Он спит.
— А, ну это ничего… Пойдемте.
Мы встали и вышли несколько на площадку… Но так как уже начали сбираться и другие самоварницы, то старикаша, чтоб как-нибудь маскироваться, довольно громко сказал, обратясь к Лизе:
— Послушай, Лиза, что же ты это, что же самовар-то?
— Си-ча-а-ас! — ответила она протяжно и так же громко.
«Сигары-папиросы» поднял голову и оглянул все кругом. Лицо его было красно, вероятнее всего, от водки…
— Пш, вы! — крикнул он на собак, перевесившись нетвердо, достал сигару и налил стакан водки.
— Фу, какой страшный! — прошептал старикаша и попятился назад.
— Пойдемте, пойдемте, — тащил он меня назад. И жалко, и смешно было видеть его в эту минуту: избледна-желтый, с блуждающими глазами, в камлотовой шинели, застегнутой доверху, в картузе с большим козырьком, он походил как бы на сумасшедшего, убежавшего из больницы.
— Лиза, Лиза! Дорогая ты моя! — прошептал он, подходя как можно ближе к девушке, которая несла самовар для нас. — Драгоценная ты моя! Обидели тебя, бедную! — И столько было в этих словах нескончаемой любви, столько душевной муки, что нельзя было в то время равнодушно смотреть на этого человека.
_ Лиза, маточка! — продолжал он, подходя с ней к столу. — Дай нам чайку, голубушка… и… сливочек подай. — И он с такою нежностью смотрел на нее, что грешно бы было и смеяться над ним.
— Ах, Василий Васильич, как вы мне надоели, ужасти! — проговорила девушка. — Кажись бы, и рубля вашего не нужно.
— Да чем же, милушка ты моя, чем же я надоел-то? — Он, кажется, и забыл про меня.
— Тем, что смерть мне от вас приходится! Вот чем!
— Смерть? как смерть? какая смерть?
— Какая смерть! Настоящая смерть, хоть утопиться иль зарезаться!
И девушка круто повернулась и пошла прочь. Старикаша так и опешил.
— Что, что такое она говорит? Как утопиться, как зарез…
Голос его оборвался, в нем слышались слезы…
— Смерть из-за меня, смерть! — твердил он. — Господи! Что ж это такое?
— Успокойтесь, Василий Васильич, — это она так; так, знаете, сбрехнула…
— Нет, нет, не… не сбрехнула, она это заправду… Слышите, слышите! — схватил он меня за руку. — Слышите, как он ругает ее?
Действительно, запьяневший детина с «сигарами, папиросами» ругался на всю рощу.
— …Шельма! За тем только и в рощу вышла!.. К тому только и на свет рождена!.. Ишь, красавица… разрядилась! Не верьте ей, честные господа, обманет, как вот меня обманула. Всю зиму водила, протянула до осени. Всего из-за нее лишился… Вот в какую коммерцию попал!.. Поддержите, господа, коммерцию!
Он стал обращать на себя внимание: собиралась толпа, которая после него видимо интересовалась и нами.
Старикаша съежился.
Что тут делать, батюшка, а? Ведь скандал может выдти, а? Скандал ведь. Я лучше с ним ужо, ужо переговорю, прямо, честно переговорю…
Ишь ты, старичка какого подцепила! Она знает, кого подцепить… — продолжал голосить детина. — Кто больше даст, того и она… Целую зиму водила, а я не то, чтоб с какими-нибудь намерениями, а честным образом, я жениться хотел на ней.
— Полно-ка ты, полно! — вступилась за Лизу пришедшая мать ее. — Жениться! Да кто пойдет за тебя: ни кола, ни двора — тебя же придется одевать да обувать…
— Молчи ты, старая черр…товка! — крикнул детина. — Молчи — ты ей первая потатчица. Старичок почтенный, береги от них свои деньги! — продолжал он. — Они оберут тебя… береги, брат, эй, береги! Ты слушь-ка! — Он встал и подходил по направлению к нам, покачиваясь.
— Пойдемте, батюшка, пойдемте! — с испугом вскрикнул мой старик. — Я лучше с ним после, ужо, я с ним честно переговорю…
— Лиза, — обратился он к девушке, — я ужо!
Мы встали и пошли вправо, чтоб пробраться задами.
— Э, видно, сбрендил, брат! — детина. — Влюблен тоже… ха, ха лишился, ха, ха, ха!
Мой старик был совершенно уничтожен этим происшествием; он как бы еще более похудел в это время, лицо его осунулось, глаза беспокойно прыгали в своих орбитах.
— Погоди же, я уже один на один расправлюсь с этим грубияном, погоди, ужо узнает он у меня, — шептал он со злобой, — погоди!..