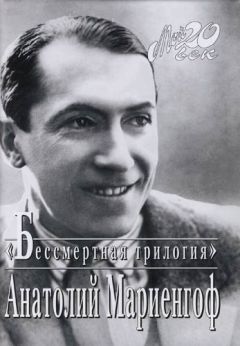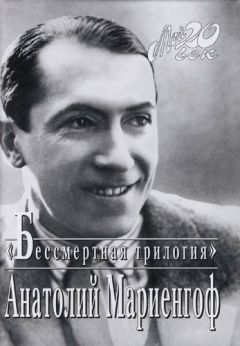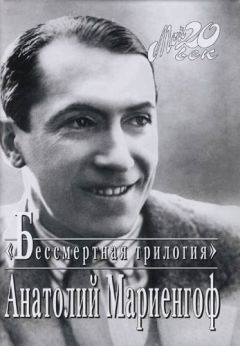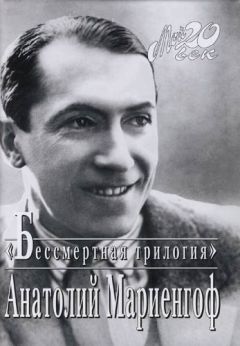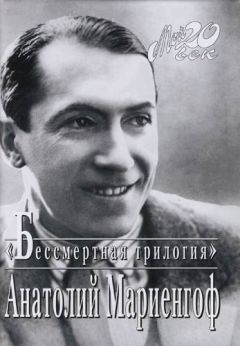Анатолий Мариенгоф - Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги
— Остановись, старина! — сказал я, постучав в спину возницы, как в мягкую дверь.
Он неохотно придержал коня.
— Рю-ю-юрик!… — заорал я. — Рю-ю-юрик!…
— Толя! Мартышка!… — ответил он девическим голоском. — Куда это вы? Куда?
— В Одессу!
— Зачем?
— Рожать!
— Сумасшедшие!… Уже поздно!
— Рожать, Рюрик, никогда не поздно, — наставительным тоном ответила Мартышка.
— Я хочу сказать: не слишком ли поздно собрались?
— Лучше поздно, милый, чем никогда!
— Не уверен в этом, Мартышка! По-моему, лучше — никогда.
Он был заядлый холостяк.
Но извозчик уже тронул вожжой своего коня.
— Вот подлец! — проворчал я. — Он, видимо, струсил, Нюха, что ты рассыплешься на его блестящей пролетке.
— Конечно. Каждый бы на его месте струсил.
Я невольно вспомнил испуганные глаза Рюрика Ивнева, которыми он смотрел на наш знаменитый фибровый чемодан. Он с ним тоже раза два путешествовал во время гражданской войны. Мне всегда нравились глаза нашего поэта под тяжелыми веками. Я даже написал о них целую строфу в своей поэме «Друзья». Это были глаза святого и великого грешника. Что всегда рядом.
А только что, в ту секунду, когда он пропищал: «Сумасшедшие!…» — я увидел, что это были добрые, по-настоящему испуганные глаза старого друга.
Рюрик Ивнев писал не только очень хорошие стихи, но и очень плохие романы. Поэтому их охотно печатали и еще более охотно читали.
Поэтому Шершеневич любил повторять Крылатую фразу Мережковского: «Что пОшло, то и пошлО». И даже обмолвился эпиграммой:
Не столько воды в Неве,
Сколько в Рюрике Ивневе.
А Есенин говорил: «Наш Рюрик пишет романы очень легко. Легко, как мочится».
К счастью, наш друг не обижался. Мне даже казалось, что ему были приятны эти цитаты, обмолвки и литературно-критические сентенции.
А вот названия он придумывал для своих романов действительно отличные: «Любовь без любви», к примеру.
Наш поезд отходил в 20.14. Вечер был теплый, почти черноморский. Фибровый чемодан не слишком отягощал меня. А Мартышка несла в руках зонтик, сумочку и букет красных гвоздик. Я отлично усвоил язык цветов. Красный означал: «Люблю безумно».
— Осторожно… Не оступись… Здесь желобок… Смотри под ноги… ступенька…
— Мне кажется, Длинный, ты волнуешься.
— Чуть-чуть.
— Врешь, Длинный, что чуть-чуть.
— Если хочешь знать чистую правду: чуть-чуть больше, чем чуть-чуть.
— Опять врешь.
И она сжала мне руку теплыми пальцами:
— Немедленно, Длинный, выкинь из головы всякие дурацкие страхи за меня. Слышишь?
— Слышу.
— Ну!
— Есть. Выкинул.
— Опять врешь.
Фибровый чемодан я заботливо положил в головах — под жидкую вагонную подушку.
— Так тебе будет, Нюша, удобнее спать. Повыше будет. Правда?
— Конечно. Повыше и пожестче.
— Тогда я положу чемодан в ноги.
— Пожалуйста. Если он не обидится. Места нам обоим хватит. Все равно я сплю калачиком.
Нет, шутки до меня не доходили. Я был настроен слишком серьезно.
В купе уже расположились три курортницы: молоденькая в шелковой пижаме со шнурами на груди, как у гусара, не очень молоденькая в ситцевом сарафане и толстая крашеная дама в фиолетовом халате, которая мужественно боролась со старостью. Она вытирала кружевным платочком три потных подбородка, обмахивалась костяным китайским веером и громкими глотками пила боржом прямо из бутылки. Мне передавали, что англичане для развлечения ходят в немецкие рестораны, чтобы слушать, как немцы едят. Признаюсь, что это развлечение не в моем вкусе. И я трусливо сбежал.
— Они сразу увидели! — сказала Нюша, выйдя из купе в коридор, где я поджидал ее у раскрытого окна.
— Неужели?
— И не могли оторвать глаз.
Я бодро сказал:
— Тебе повезло, Нюша. В купе одни женщины. Очень повезло.
— Но я, Длинный, предпочитаю мужчин. — И она с улыбкой пояснила: — Мужчины, видишь ли, поженственней, помягче.
Я сделал вид, что не согласился с этим:
— Чепуха! Парадокс! Держись, дружок, храбро.
— А я сразу лягу. Постель уже приготовлена.
— Правильно. Сразу на боковую. И спи.
Проводник принес для моих гвоздик воду в полулитровой стеклянной банке из-под маринованных огурцов.
— Большое спасибо, товарищ, — сказала она проводнику.
И, поставив цветы в воду, вернулась к окну.
Я поинтересовался:
— Все в порядке?
Нюша мотнула головой в сторону шептавшихся курортниц:
— Обсуждают мой живот.
— Не фантазируй, дружок.
— Мне ли не знать женщин? Сама-то я кто?
Фиолетовая решительно закрыла дверь в купе.
Я прокомментировал не слишком уверенно:
— Вероятно, хочет попудрить нос.
Но Нюша стояла на своем:
— Они смотрели на мой живот, как на Гималайские горы. Вероятно, похоже?
— Ничего подобного! Я даже поражаюсь, как они его заметили.
— Ах ты, мой длинный дурень! — И Нюша опять сжала теплыми пальцами мою руку.
Раздался второй звонок. Мы обнялись и крепко поцеловались. Она старалась приободрить меня:
— Не вешай, Толюха, носа. Я постараюсь не родить до твоего приезда.
— А это можно — постараться? Постараться или не постараться в этом деле?
— Конечно, можно! — сказала она убежденно.
И самыми правдивыми на свете глазами взглянула в мои глаза:
— Вообще, Длинный, все будет замечательно.
— Не сомневаюсь! — со слезой в горле согласился я. — Ни одной минуты не сомневаюсь.
И даже пошутил. Первый раз за тот вечер пошутил:
— Только, пожалуйста, милая, не играй в футбол.
Она поклялась, что не будет. Потом добавила:
— В крайнем случае, постою в воротах голкипером.
Когда поезд отгромыхал Москву, будущая одесситка вошла в купе, переоделась на ночь, съела яблоко, вынула из сумочки «Вечерку», легла и натянула до подбородка белое пикейное одеяло. Гималаи словно покрыл снег. Курортницы не отрывали глаз от этого величественного зрелища. Тогда будущая одесситка повернулась носом к стене и стала посапывать. «Вечерка» выпала из ее рук. Ничего сенсационного в ней не было.
— Заснула, как безгрешный ангел, — пробасила фиолетовая.
— Вот какие бывают «приятные» сюрпризы! — сказала не очень молоденькая. — Железнодорожные сюрпризы!
— Еще родит нам тут среди ночи! — как наработавшийся пильщик, тяжело вздохнула фиолетовая.
— Вполне вероятно, — согласилась не очень молоденькая. — Моя дочка на крыше родила. С биноклем в кармане. Во время солнечного затмения.