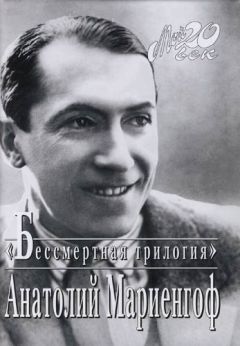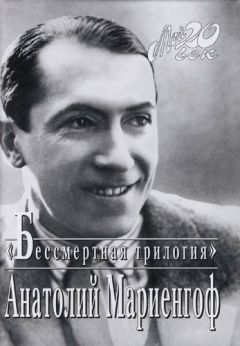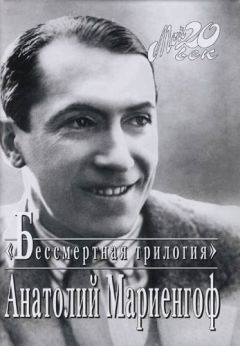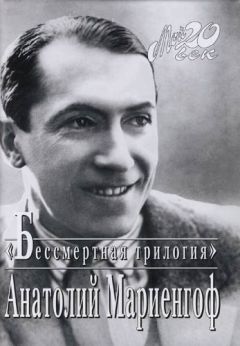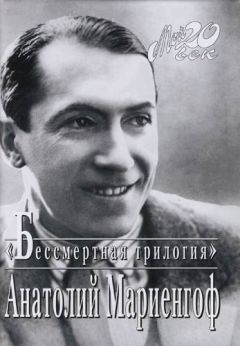Анатолий Мариенгоф - Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги
И это не Сергей Есенин, а Качалов.
И опять:
«Рукоплесканьями гремит широкая арена».
Наклонясь к Никритиной, я шепчу:
— Вот тебе, Нюха, и эстрадник!
— Ух, какой великий эстрадник!
Василий Иванович внутренне давно ушел из Художественного театра. Он даже говорил «они» о работающих, вернее — служащих в невысоком серо-зеленом доме с чайкой над входом.
Станиславский пугал:
— Ни один театр в мире не может так быстро рассыпаться, как Художественный. Он может рассыпаться в два месяца или даже в два спектакля, и ничего от него не останется.
Над этими словами надо бы призадуматься.
Когда смерть подошла и встала возле примятых подушек Качалова, опершись на невысокую спинку его больничной кровати, Василий Иванович, не надевая пенсне, ясно ее увидел.
— А знаешь, Нина, — очень тихо сказал он, — мне уже это не страшно. Но и не любопытно.
Нина Николаевна сухими губами припала к его руке.
Потом, постаравшись улыбнуться, он сказал голосом, почти лишенным звука:
— А ну — со смертью будем храбры!
Ведь все равно возьмет за жабры.
Нина Николаевна заплакала.
Она плакала и рассказывая мне это.
Качалова нет.
Я не в первый раз без него сижу в его кабинете. И всегда сжимается сердце. До чего же он не похож на его кабинет!
Словно не только переставили мебель, перевесили картины, убрали из-под стекла книжного шкафа фотографии его друзей, но и переменили воздух. Качаловский воздух ушел из дома вслед за Василием Ивановичем.
Я спорю с его сыном:
— Нет, Дима, не могу, не могу с этим согласиться! Нельзя было сжигать его дневники.
— Отец перед смертью взял с меня честное слово, что я это сделаю.
— Но это история всей жизни Качалова! Он писал их десятки лет. Писал почти ежедневно.
— Мне пришлось сжечь два больших сундука. Они стояли на даче. На Николиной горе.
— Ужасно!
— Это была его последняя воля.
— А если бы Шекспир завещал сжечь свои сонеты? И вы сын его? Вообразите это. Вы сожгли бы их?
— Я не сын Шекспира.
— Это мне известно. Поэтому я и сказал: вообразите это.
— Не могу. Вероятно, у меня нет воображения.
И молчит.
— Вы, Дима, прочли их?
Он молчит.
— Вы прочли эти дневники?
— От первой до последней строчки.
— И не колеблясь сожгли?
— Почти не колеблясь.
— Сожгли историю его ума, его души, его сердца?
— Отец был гораздо умней, крупней и сердечней, чем его дневники. Они никуда не годились. Плохие, жалкие! Кроме того, повторяю еще раз: я дал честное слово умирающему отцу. Вы знаете, Толя, что он умирал в полном и глубоком сознании. Только в последние дни отец примирился со смертью. Примирили физические страдания. Он принял ее, как избавленье.
— Что значит, Дима, это ваше честное слово! Скажу больше: что значит даже последняя воля?
— Воля отца! — упрямо повторяет он.
— Даже отца! Может быть, с точки зрения общепринятой морали я говорю сейчас кощунственные слова. Но ведь я чуть-чуть историк. Всю жизнь я возился с ней. А дневники Качалова, какие бы они ни были, это история русской культуры моего века. Воображаю, какие громы и молнии, какие проклятья будут метать потомки на вашу бедную голову.
Мы говорили долго, страстно, с болью, с гневом, порой со злобой, но так, разумеется, и не переубедили друг друга. Так и не сговорились.
Кто же из нас прав?
Жизненная дорога Димы была нелегка: белая армия, эмиграция, возвращение на родину, война, плен.
Отец был уверен, что он погиб. Мать хваталась за ускользающую от нее надежду. И говорила, говорила о сыне. Как о живом.
Василий Иванович слушал с окаменевшим лицом.
Потом ронял:
— Отмаялся Димка.
Нина Николаевна вскидывалась:
— Да что ты все: отмаялся, отмаялся!…
Это повторялось изо дня в день.
У Василия Ивановича было только одно слово:
— Отмаялся.
В 1942-м Никритина с актерской бригадой Большого драматического театра отправилась на Московский фронт. Как-то бригада заночевала в деревне, только что оставленной немцами.
Неожиданно старая крестьянка сказала:
— Туто у нас немцы стояли. С ними один наш был. Переводчиком, стало. Молоденький такой, белобрысенький. Уходя, значится, он попросил меня: «Скажите, мол, нашим, когда придут с освобождением, что я, мол, живой. Я, мол, сын очень знаменитого в России артиста. Имя ему: Качалов. Пусть, мол, наши скажут об том моим родителям. Меня, мол, увели с собой немцы».
Это и сделала Никритина. Разумеется, немедленно.
Вот и не отмаялся Дима.
Нина Николаевна умерла в 1956 году «у Ганнушкина». Это старинный московский сумасшедший дом. Незадолго до смерти «у Ганнушкина» в нервном отделении находился и Есенин.
Ольга Пыжова с дочкой, с Ольгушей, воспитанной в доме Качаловых, навестила Нину Николаевну.
Легенда называет Ольгушу дочерью Качалова. Это вздор, это чепуха.
У Литовцевой в последние годы вырос горбик. Еще резче она хромала. И словно усохла вся. И стала желтая, как березовый увядший лист, пролежавший не один год в толстой книге.
Увидав Ольгу и Ольгушу, Нина Николаевна кинулась к ним. Обцеловала Ольгушу, ставшую крупной красивой женщиной. Обняла Ольгу. Прильнула усохшим листиком головы к ее груди. И горестно заплакала. И стала умолять:
— Оля, возьми меня отсюда! Увези меня отсюда! Увези! Здесь страшно. Это сумасшедший дом. А я нормальная. Совершенно нормальная.
А через минуту она уже не узнавала Пыжову.
— Это же Ольга. Это моя мама, Ольга Пыжова. Ольга Ивановна! — испуганно повторяла Ольгуша.
— Кто?… Пыжова?… Ольга Пыжова?…
И глаза у Нины Николаевны налились кровью, пальцы скрючились, ногти превратились в когти злой птицы, и она закаркала, махая руками, как большими крыльями:
— Зло!… Зло!… Пыжова мне сделала много зла!… Зла!…
Я молюсь словами Пушкина:
Не дай мне Бог сойти с ума,
Нет, легче посох и сума.
Notes