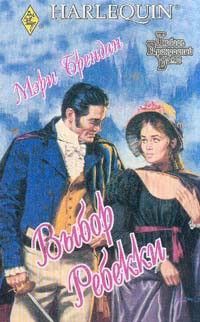Эрнст Юнгер - Сады и дороги. Дневник
Таким образом, в течение получаса вся масса была разделена и размещена в казарме. Когда я узнал, что многие уже давно ничего не ели, то отдал команду всем поварам выйти из строя. Их оказалось около дюжины. Я тотчас же велел им отправляться на кухню, где оставалось много припасов, и приступать к стряпне. Однако прежде задал им еще один вопрос: «Кто из вас знает, как готовится sole à la meunière[132]?» Вызвался маленький плутоватый Артюр, парень, в недалеком прошлом служивший ординарцем в марокканском казино. «Это проще простого, mon capitaine». Кроме него из строя вышел еще один, спокойный, приятный человек, месье Альбер. Его-то я и назначил своим поваром, а Артюра определил ему в подручные.
Впрочем, очередность мероприятий, напрашивавшихся сами собой, была следующей: организация караула на выходе, распределение и устройство пленных, продовольственное снабжение, устройство отхожих мест и полицейские меры предосторожности. В остальном я предоставил людей самим себе, а свои приказы передавал им через их командира, служившего одновременно и тем рычагом управления, которым они приводились в движение.
Потом уже, задним числом, меня посетила мысль, что присутствие семисот французов ничуть меня не смутило, хотя рядом со мной, больше для проформы, стоял лишь один-единственный часовой. Насколько все же опаснее оказался тот, один, который в Пристервальде, туманным утром 1917 года, бросил в меня ручную гранату. Это было мне в назидание и укрепило меня в решении никогда не сдаваться, которому я оставался верен еще во время Мировой войны. Во всякой капитуляции заключается некий непоправимый акт, который ослабляет изначальную силу воина[133]. Так, я был убежден, что язык тоже разделяет горькую участь поверженного. Это особенно хорошо можно видеть в период гражданской войны, когда проза разбитых партий тотчас же утрачивает силу. Тут я солидаризируюсь с Наполеоновским «Ты должен умертвить себя!». Это, естественно, имеет силу только для тех людей, которые знают, в чем на этой земле заключается главный вопрос.
Покончив с такого рода заботами, я отправился в библиотеку, чтобы еще раз взглянуть на собрание рукописей, которые сегодня казались мне еще более важными. В могучих переплетах хранились бесчисленные документы, начиная с пергаментов времен Каролингов, в искусных сигнатурах которых государь совершал акт подписания одним штрихом[134], и кончая рукописями современников; и среди прочего — письма и рескрипты Капетингов вплоть до папской грамоты Людовика XV и до удивительно робкой подписи его внука, «Луи». В первом томе я обнаружил послание Лотара, если мне память не изменяет, за 972 год, а в последнем — два письма маршала Фоша к Берто, председателю трибунала города Лаона. В 1920 году они, по скверной моде французских библиотекарей, были скреплены друг с другом булавкой, которая здорово испачкала бумагу ржавчиной и которую я позволил себе теперь удалить. Я возился в этом тихом месте, точно пчела в увядшем клевере, до тех пор, пока не сгустились сумеречные тени. Часы созерцания первостепенной важности, созерцания славы и заката — во прахе лавров.
К вопросу о ценности: такого рода сокровище оценить невозможно — на произвол судьбы их бросают только тогда, когда повержены окончательно. Я, впрочем, должен заметить: мне даже в голову не пришло, что речь здесь может идти о миллионах в денежном исчислении по отношению к листкам, которые я перебирал тут руками, и это, вероятно, потому, что во всем этом городе я, возможно, был единственным человеком, постигающим их значение. У меня на миг лишь мелькнула мысль о том, что документы, а также эльзевиры, которые лежали перед моими глазами, следовало бы перевезти в музеи и отдать под присмотр, однако для подобного шага ответственность показалась для меня слишком огромной. Так и оставил я их, как есть, на месте, предоставив собственной судьбе.
Еще раз в цитадели, где ко мне привели молодого человека из подвижной полевой хлебопекарни, застигнутого спящим в одном из разрушенных домов. Мне была также предъявлена горсть мелочи, найденной в его карманах — продырявленные никелевые монетки, не имеющие ценности. Поскольку дело это могло бы принять скверный оборот, а мне представлялось всего-навсего ребячеством, то я принял решение отпустить паренька на все четыре стороны, особенно потому, что лицо у него было бесхитростным и доверчивым. В подобных случаях следует рассмотреть физиономию как главный и основной документ, которым наделила нас природа.
День выдался жаркий, и часть ночи мы со Спинелли провели в шезлонгах, по нашему указанию установленных на плоской крыше цитадели, чтобы понаблюдать за обычным авианалетом. Но именно на сей раз он и не состоялся.
Перед тем как заснуть, еще раз поразмышлял о планах дня, прежде всего в отношении пленных. Наверно, именно с хорошим настроением в тот момент было связано то, что все у меня прошло как по маслу; особенно потому, что я постепенно теряю всякий интерес к практической деятельности, и чем дальше, тем больше. И все же в ней тоже есть отрада для души. На известных распутьях нашей юности перед нами могут предстать Беллона[135] и Афина[136]: первая пообещает научить нас искусству, как свести в боевой порядок двадцать полков таким образом, чтобы к моменту сражения все они были на месте, в то время как вторая посулит нам талант соединить двадцать слов так, чтобы благодаря им образовалась совершенная фраза. Не исключено, что мы выберем второй лавр, который реже и незаметнее цветет на скальном утесе.
ЛАОН, 13 июня 1940 года
В первой половине дня обход цитадели — в частности, подземелий, под сводами которых беспокойно сновали летучие мыши. Здесь я натолкнулся на мраморную доску, посвященную коменданту, который в 1870 году взорвал себя вместе с пороховым погребом, — я смутно припоминаю, что что-то читал об этом.
Во второй половине дня я наводил порядок в винном погребе нашего дома, тоже, так сказать, работа pour le roi de Prusse[137], поскольку наше пребывание продлится здесь, по-видимому, всего несколько дней. Хозяин дома был любителем бургундских вин, которых держал у себя свыше тридцати сортов, так что одного только «Beaune» было, например, шесть видов. Для этого дела я подобрал из пленных одного кельнера из кафе на Монмартре, обладавшего неплохими познаниями в этой области. Пока он одну за другой водворял на место бутылки, повыдерганные с полок разгоряченными бражниками, а я составлял опись, мы болтали о том о сем, например о вине, устрицах, закусках и bouillabaisse[138]. В этих гастрономических вопросах мой партнер обладал большим опытом, равным образом и в том, что касалось женщин, каковых он подразделял по провинциям. Так, он сделал сравнительный анализ женщин Марселя и парижанок — марсельские женщины оказались потемпераментнее, да к тому же дешевле. На прощание я предложил ему высмотреть бутылочку на свой вкус; он выбрал старый «Pommard», пробка которого уже наполовину истлела.