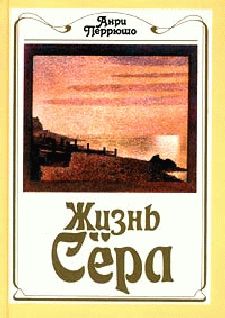Анри Перрюшо - Жизнь Сезанна
2 мая у Золя вышла первая статья этой серии, а 16 июня – последняя, содержащая похвалу Солари. К этому времени исполнилось уже три недели, как Сезанн сбежал из Парижа в Экс.
* * *Белесая от света долина зажата между сиреневыми холмами. Почти безлюдье. Лишь временами появляются какие-то крохотные силуэты и медленно движутся по дорогам среди полей и виноградников. Ни малейшего шума, только непрерывный стрекот цикад да минутами легкий шелест серебристой листвы олив, колеблемых ветром. Солнце, тишина, одиночество. Сезанн в Жа де Буффане, работает.
Он работает, совершенно забывая о времени. Когда ему случается писать кому-нибудь из друзей, он датирует свои письма приблизительно и неопределенно: «примерно первые дни июня», «понедельник вечером». Большая пустота образовалась вокруг него. Видится ли он с кем-нибудь, кроме Мариона и реже Алексиса, чьи домашние неурядицы (Алексис помышляет сбежать в Париж, не дожидаясь отцовского разрешения) хоть как-то развлекают его? Изредка вечером он отваживается выйти на Бульвар, но, по правде говоря, без особого желания повстречать там кого бы то ни было из знакомых. Несмотря на свои провалы в Салоне – весьма сомнительно, чтобы Экс не был о них осведомлен, – Сезанн, всегда такой «беспощадный к плохим живописцам»[78], питает одно только презрение к местным художникам, включая и Жибера. «Все они пыжатся как индюки», – говорит он. Если Сезанн не работает в Жа, то бродит в одиночестве по полям, ходит к Инфернетским ущельям предаваться размышлениям у плотины или к подножию горы Сент-Виктуар. Бывают дни, когда, загулявшись, он с наступлением темноты спохватывается, что отошел довольно далеко от Экса. Не беда! Он попросится на ночлег к кому-нибудь из окрестных жителей и выспится на сене.
Теперь Сезанн часто пишет на пленере, то в саду Жа де Буффана, то на берегу Арки или еще где-нибудь. Но большие композиции он по-прежнему продолжает писать в мастерской. Ему хотелось бы использовать портреты, написанные им за эти годы, чтобы изобразить своих друзей на фоне какого-нибудь пейзажа. Он намерен даже, если только это полотно получится таким, как он хочет, вставить его в хорошую раму и преподнести марсельскому музею. Отважится ли музей отклонить его дар?
Поль Сезанн. Бассейн в Жа де Буффан.
Солнце, тишина, одиночество. Отрешенный от всего житейского, погруженный в своего рода спячку, но только не в отношении своего искусства, Сезанн пишет. Марион, единственный свидетель его трудов, его упорства, сообщает в эту осень Морштатту: «Сезанн работает, как всегда, неутомимо, всеми силами стараясь сдержать свой темперамент и подчинить его твердым принципам. Если он достигнет своей цели, то мы, милый мой, вскоре получим крепко сделанные, достойные восхищения работы».
Год уходит. Сезанн начинает подумывать о возвращении в Париж. Но он настолько поглощен поставленными перед собой задачами, что уже не слишком хорошо знает, на каком он свете. «Я запишу себе все, что должен сделать, кого должен увидеть, и стану по мере выполнения вычеркивать; так я ничего не забуду».
* * *Приехав приблизительно в половине октября в Париж, Сезанн застает Золя крайне озабоченным и растерянным. Ему, как всегда, стоит немалых трудов заработать столько, сколько нужно, чтобы прожить. Он напечатал новый роман «Мадлена Фера», любопытное произведение на тему о физиологической предопределенности, другими словами, о том, что женщину якобы всегда влечет к тому, кто первый заставил заговорить в ней голос плоти[79]. Не странно ли, что три героя романа напоминают, хоть и косвенно, Золя, Сезанна и Габриэль. Роман этот возмутил читателей. Цензура запретила печатать его продолжение. Несмотря на скандальную огласку, книга почти не распродается. Но что такое в общем и целом «Мадлена Фера», еще один роман, не более? «Добьюсь ли я чего-нибудь и когда, если буду просто так, из года в год, накапливать по книге?» – спрашивает себя Золя. Осаждаемый докучными заботами, он нервничает. Мысль о Бальзаке и его «Человеческой комедии» не дает ему покоя. Ныне, думает Золя, «с читателями можно говорить лишь языком мощных, многотомных произведений». Вот уже несколько месяцев обдумывает он замысел широкого полотна, которое передало бы «естественную и в то же время социальную» историю семьи эпохи Второй империи, историю Ругон-Маккаров. Он возобновит дело, предпринятое Бальзаком. Создавая этот труд, он максимально использует свои воспоминания и наблюдения. Экс он опишет под именем Плассана. Главным героям и второстепенным персонажам он придаст черты, подмеченные им у его старых и новых знакомых. В этом произведении будет, разумеется, выведен и Сезанн. Он предстанет в образе художника так же, как Луи-Огюст – в образе холодного, педантичного, скупого буржуа… «пересмешника и республиканца». Сезанну нужно посвятить целую книгу, мечтает Золя, нужно вылепить с него одну из самых ярких и выпуклых фигур этой фрески, описать трагедию «великого художника-неудачника», «неполноценного гения», «рыцаря неосуществимого»[80] – ужасную трагедию духа, истребляющего самого себя[81].
Это ли не характерно для Сезанна? Нынешней весной его снова постигла неудача. Разве не поговаривают о том, что Сезанн все больше и больше недоволен своими поисками? «Какая страшная вещь живопись, – вздыхает Гийеме, говоря о Сезанне, – чтобы хорошо писать, одного ума недостаточно. Но чем черт не шутит, я все же не сомневаюсь, что он со временем своего добьется…»
В эти дни 1869 года Сезанн, измученный своими исканиями, в самом деле недоволен собой. Он начинает исцеляться, и сам это чувствует, от «гангрены романтики»[82]. Снова и снова он по собственному почину мысленно обозревает этапы истории живописи, и если в портретах, а тем более в композициях ему не всегда удается стремлением к объективному реализму побороть свой романтизм, то по крайней мере в натюрмортах он к этому довольно часто приходит. В этом жанре он нередко достигает высокого мастерства и создает произведения, в которых острое видение сочетается с яркостью исполнения. Правда, натюрморт как нельзя лучше подчиняется его устремлениям. Иное дело сюжетная композиция: подсказанная воображением, она в силу этого и по природе своей слишком связана с его внутренним миром, чтобы неизбежный элемент страстности не мешал ее выполнению, а вот натюрморт, поскольку он лишен разрушительной силы эмоциональности, освобождая его от неотступной заботы о сюжете, позволяет отдаться целиком проблемам живописной техники.
В доме у Золя имеются часы из черного мрамора – по-видимому, память об отце, – эти часы и ряд других предметов: раковина, ваза, чашка, лимон – послужили Сезанну мотивом для натюрморта, представляющего собой по силе выполнения, по простоте, а главное, по пластичности формы, бесспорно, одну из самых больших удач Сезанна с тех пор, как он стал художником.